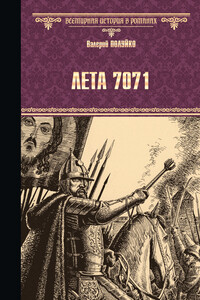— Мне как судить, государь? Я был далеко, и дела сего допряма не ведаю. Толико и слышал я, что вскручинился вельми князь Александр... А пошто — ты сам ведаешь.
— Ведаю! Како ж не ведать?! — Иван то ли улыбнулся, то ли поморщился: явно не такого ответа он ждал от Челяднина. — Похотелось князю, плывя по реке, править не токмо судном, но и рекой, — сказал он нарочито громко, чтоб слышали не только Челяднин и Мстиславский. — А река, ведомо, течёт своим неизменным током, как и пристало ей течь... Вспять не поворачивает. Вот князь и вскручиннлся, осердившись на реку. Да и он ли один? В те поры многие воскручинились. И Курлятев и Курбский!.. Весь тот синклит Алёшкин, с попом их любезным Силивестром, чьими проповедями зловредными и надоумились они реку вспять поворачивать. Он их прельщал сладостной мыслию, что они достойны делить с нами власть... И нам внушал то же самое, выставляя за высшее благочестие искать согласия с холопами своими. В обычай уж стало входить: я не смен слова сказать ни единому из самых последних советников, а советники могли говорить мне всё, что им вздумается, и обращались со мною не как со владыкою или даже братом, но как с низшим... Кто нас послушает, сделает по-нашему, — тому гонение! Кто раздражит — тому слава и честь! Попробую прекословить — и вот мне кричат, что и душа-то моя погибнет, и царство разорится!.. Кто мог такое снести?!
Иван говорил таким тоном, что невозможно было понять — оправдывается он или обвиняет, и делал это, несомненно, намеренно, ибо предназначал сказанное и друзьям и недругам — одновременно.
— ...Однако же, разогнав ту синклитию Алёшкину и сыскав все их измены собацкие, я никому не заплатил за зло злом: смертною казнию не казнил никого... Лише по разным городам разослал. И попа, вождя их духовного, також не злобой и опалой отогнал от себя, но он сам оттёк по своей воле. И я его отпустил... Не потому, что устыдился, но потому, что не хочу судить его здесь. Я хочу судиться с ним в грядущем веке, пред агнцем Божиим!
Голос Ивана оставался спокойным: всё, о чём он сейчас говорил, уже отболело, отмучило его, ярость и надсадная острота прошли, и теперь в нём говорила лишь память, пусть и злая, мстительная, но память — или что-то другое, такое, что могло быть и страшней и злей его памяти. И в самом деле, это что-то существовало. Оно явно чувствовалось в его необычном спокойствии, которого он, должно быть, и сам ещё не замечал в себе — так неощутимо оно вошло в него, преодолев в нём, казалось, непреодолимое. Он как будто поднялся сейчас над самим собой, обретя это спокойствие, поднялся над ничтожностью злобной одури и юродства, уводивших его в мрачные потёмки, за которыми крылась и вовсе кромешная тьма. Но конечно же, это его спокойствие пришло к нему совсем не потому, что в нём отболела душа и поулеглись былые страсти. Да, старая рана затянулась и боль поутихла, но разве же в нём была только одна эта рана и разве же были лишь старые раны? Нет, тут было иное. Тут исподволь, но властно проявлялась его окрепшая вера в себя, в свою правоту и непреложность той созданной им для себя правды, которой он увенчал своё изгойство, а также и внутренняя сила, прежде всего сила его власти над самим собой, как раз и давшая ему это спокойствие — как оружие, которым он ранее не владел, и вместе с тем твёрдая, трезвая устремлённость, которой было необходимо именно такое оружие.
— ...Я с ними со всеми хочу лише Божьего суда и давно уж отставил от сердца всё былое нелюбье. И в памяти — також не стал бы держать, отступись и они от своего недоброхотства. К ногам им моим бы притечь, осмирив гордыню, и доброю службой затмить всю былую усобицу... Так нет же! В возносчивости своей закосневши, плодят недоброхотство и нелюбье враждебное...
— Нелюбье ли, государь? — вставил осторожно Челяднин. — Пошто так едино и мнишь? Ан как обида горчайшая?
— Такого и вовсе приять не могу. Не бабы мы, чтоб обидами разум себе затмевать. Коль обида, то вот он и сказ весь, тому же князь Александру... Поезжайте к нему, ты, Челядня, да и ты, Мстиславый, и скажите на обиду его, моим словом скажите: довольно бабам уподобляться! Силивестра уже не воротишь! Да и не стоит того поп, чтоб из-за него свару длить.