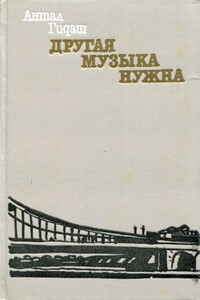Терезварошский банк и Острайхер разнесли не только мастерскую на улице Дамьянича, — опустела и мастерская на улице Мурани, оголилась квартира. Фицеки, как намокшие птички, спаслись в маленькую мастерскую без нар. Банк даже нары продал на дрова. Все уловки и мольбы были напрасны. Фицек стоял с глазу на глаз не с живыми Швитцером и Острайхером, а с каким-то страшным незнакомцем, которого зовут «банк» и который имеет уполномоченного. А тому он напрасно объясняет — ответ всегда один и тот же:
— Господин Фицек, если б от меня зависело, я сделал бы, но я только уполномоченный!..
Этажерка, белье, которое, согласно законам, нельзя было описать, ветхий стол и кровать, несколько инструментов, шкаф, которые удалось Фицеку выкупить после аукциона за три форинта, и рваный тюфяк — это было все, что осталось после битвы; остальное забрал неприятель.
Господин Фицек мог все обдумать, все вычислить, когда анализировал отдельные этапы своего неудавшегося похода, но был один момент, который никак не укладывался в его взволнованном мозгу, и он объявил его главной причиной своего поражения. Когда Фицек в своих рассуждениях доходил до этого места, сердце начинало так болеть, что приходилось откладывать работу в сторону.
Он встал, подошел к окну и застывшими глазами смотрел на скорбную улицу. «Господи ты боже, ты, всеведущий, скажи мне, как это случилось, как могло случиться? Людей напрасно спрашивать… Взял я к себе Шимона; как брата, как сына держал, и он… он принес приговор… Потому что это был приговор… От этого я погиб. Поддерживал я стачку подмастерьев? Поддерживал! Деньги давал и даже — осел я! — печенье велел жене печь для бастовавших рабочих Кобрака. А когда они победили… И как им жалко не стало!.. Мне тоже принесли новые расценки… На четверть повысили их против прежних, когда и при старых я бился как рыба, выброшенная на берег. Мне принесли обязательные расцепки… мне — Шимон, из которого я управляющего хотел сделать… господи! Поддерживал их, сам поддерживал свою смерть… Господи ты боже, скажи мне, разве стоит жить?.. Разве есть граница человеческой неблагодарности?»
Сухими глазами смотрел он на уличную слякоть. За этажеркой тихо сидела семья, голодные дети либо спали, либо зевали. «Через две недели первое число, — плелись дальше мысли Фицека. — Откуда я возьму денег, чтобы заплатить за квартиру? Я должен сто десять форинтов, вперед надо заплатить пятьдесят пять… Отнимут у меня и то, что еще осталось: верстак, инструменты, колодки, и пойду я с ребятами по миру…»
— Берта, жена!
— Что, Фери?
— Что мы будем делать первого?
Не впервые он спрашивал и не впервые не получал ответа. Зачем отвечать? Не все ли равно? Разве словами изменишь судьбу? Разве так много путей осталось впереди? Куда идти? Обратно в деревню? Уже написали маляру, зятю Боку, у которого в Сентмартоне домик с садом, уже написали ему: нужен ли в деревне сапожник? И пришел ответ: «Там, где есть шесть сапожников, проживет и седьмой. Приезжайте!» Теперь дело было только за деньгами для отправки вещей. Надо было отослать оставшиеся вещи, инструменты, колодки, а то без них хоть на гвоздик можешь повесить свою специальность. Послали другое письмо. Ответ с запозданием, но все-таки пришел:
«Если вы решились, я пришлю двадцать пять форинтов на дорогу, — это все, что я могу сделать. Смотрите не употребите их на что-нибудь другое, а то больше я послать не могу».
— Ну, Берта, едем! В Сентмартон. Обратно в деревню. Ребята одичают. Никогда из них ничего не выйдет. Все равно! Но как вынесем вещи? Домовладелец все задержит. Как вынесем вещи? А без инструментов, колодок, кровати и шкафа как же поедешь, за что возьмешься?
Старший дворник Доминич не раз предупреждал его:
— Господин Фицек, ночью не удирайте: мы имеем право не то что с улицы, а даже из квартиры все притащить обратно, да еще за ваш счет.
— С Фицеков глаз не своди, — сказал Доминич Шаролте. — Он способен удрать из мастерской, вынести вещи, а тогда Бошани (так звали владельца дома) съест меня. Так и знай: пока я на работе, ты заместитель домовладельца. Если ночью удерет, не наше дело — по закону вещи даже в новой квартире можно забрать. Но если он днем выберется, то и с улицы не возьмешь назад.