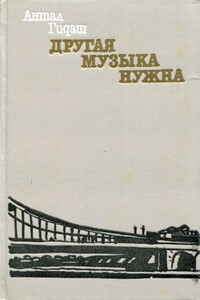И он пошел. Окружавшие сразу присоединились к нему; стоявшие дальше слышали только, что впереди спорят, но, когда первые ряды вышли из шеренги, присоединились и они. Розенберг повел их по улице Надьмезе.
Новак прикрикнул на Батори:
— Чего стоишь, мямля, язык жуешь? Пошли к каменщикам, а то и они уйдут.
Оба побежали к каменщикам.
— Живей, товарищи, живей!
— Что такое? Что случилось? Куда пошли наборщики?
— Они пойдут по другой дороге! — крикнул Новак. — Живей!.. Живей!.. Вы здесь пойдете. Поняли? Ну вот!..
На улице Надьмезе Розенберг встал на мусорную тележку.
— Коллеги! — закричал он. — Коллеги! Идиоты распорядители провалили демонстрацию и оскорбили наборщиков. Это мы не оставим так! Об этом еще поговорим! Пошли на работу!
Новак и Батори поплелись обратно к монументу Тысячелетия. А вечером, захватив Антала Франка, пошли втроем в «Непсаву». В коридоре они встретились со Шниттером.
Шниттер набросился на них:
— Что такое, товарищи? Делегаций я не принимаю. Я уже все знаю.
— В деле с наборщиками…
— Ни в каком деле! Я уже сдал заявление в «Непсаву». Наборщики были правы! И вы, товарищ Новак, не суйте всюду свой нос. Не ваше дело!
— Что значит не мое дело? — бросил Новак. — Товарищ Шниттер, что это за тон? Это дело каждого честного социал-демократа. Поняли? Честного социал-демократа. А со мной так не разговаривайте.
— Да, — добавил Батори, — мы не будем вашими волами! Не будем! Мы знаем хорошо… Печович защищает печовичей, господин Шниттер.
— Убирайтесь отсюда, не то я велю вас выбросить!
Для Новака весь мир перевернулся в одну секунду. Тот же Шниттер, который два дня тому назад сказал, что не знает лучшего рабочего, чем он, теперь выбрасывает его…
— Ах ты дерьмо! — завопил он. — Негодяй, дармоед, чернильная крыса, ты велишь выбросить нас отсюда: из моего дома, из моей газеты!
— Немедленно убирайтесь, негодяи!
— «Негодяи»! — взревел Японец. — «Негодяи»… — и кулаком весом с большую чугунную гирю ударил Шниттера по голове так, что редактор тут же свалился.
Поднялся невероятный шум. Сбежались сотрудники и рабочие, находившиеся в помещении редакции.
— Убили редактора «Непсавы»! — послышались крики. — Убили Шниттера!
Батори, подавленный, стоял над валявшимся в крови человеком.
— Я не хотел… — пробормотал он.
Кто-то сзади ударил железной палкой Японца по голове, хлынула кровь, но он вцепился в решетку окна. Затем без сопротивления дал полицейским связать себя и увести…
…Прошли часы, а Новак и Франк все еще не могли взять в толк, как все это могло случиться.
…Рана г-на Фицека имела более короткую историю. Голову сапожнику разбили полицейские во время демонстрации Важони, когда Фицек ругал социалистов, рассказывал о них кошмарные истории и не согласился подчиниться приказу «разойтись».
— Иди ты в ад, фараон несчастный! — завопил он, затем заорал во всю глотку:
Не плачь, не плачь, Лайош Кошут,
Будет у твоей родины свобода!
Что тебе больно, то больно и нам.
Один полицейский так треснул распевавшего мастера по голове, что г-н Фицек через мгновение забыл людоедов-социалистов, Лайоша Кошута, Важони, Кобрака, расцепки… Он катался по земле и чувствовал только жгучую боль.
2
Пришла осень. Нескончаемые пряди льющегося дождя сплетали дни воедино, каждый день был похож на другие, грустные, облачные, без солнца. Лужи и слякоть отыскивали малейшие дыры и трещины в башмаках, и те с упреком предупреждали хозяина: «Отнеси-ка меня к сапожнику».
Хозяин башмака либо не слышал, либо не желал слышать предупреждения. Страну трепала депрессия, но ботинки об этом не знали. Г-н Фицек тоже не знал; он думал только о том, что прежде в такое время он обычно клеил, размешивал клейстер, ставил набойки. ИГ вокруг кучами лежали башмаки, предназначенные к починке. А теперь он сидел безмолвный, бледный, сжав холодные губы; шел дождь, работы не было и не было…
Он потерпел поражение, рухнули славные проекты, разбежались мечты, осталась действительность — вечно моросящий дождь, сырые дни. Нет даже рваных, дырявых ботинок. Один, скрывая свою горечь, сидит он у верстака. И даже кило муки вздорожало на шесть крейцеров.