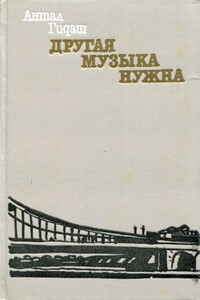— Ла-ла-ла-ла, — пропел он первое «ла-ла» высоким голосом, затем, как будто спускаясь по лестнице, все ниже и ниже.
— Держи ноты так, чтоб я видел, — тихо сказал Доминич Розенбергу. У них был один лист на двоих.
Дирижер снова поднял руку, потом рука его опустилась, снова поднялась и затрепетала в воздухе, словно цыпленок, раненный в крыло. Зазвучала песня:
Социалисты, стройтесь,
Вперед, вперед, вперед!
Над нами реет знамя,
Нас барабан зовет.
Когда дошли до второй строфы, из зала стали тихо подпевать:
Не варварским оружием
Бороться мы хотим.
Не саблей, не винтовкой
Врага мы победим.
Красноносый дирижер укоризненно обернулся. «Теперь все поют, а на урок пения так никто не приходит», — подумал он.
Распахнулась дверь, и ввалилась толпа народу.
— Товарищи!
Песня замолкла. Сидевшие в зале обернулись, некоторые вскочили. Дирижер повернулся, держа руки поднятыми. Лицо его было перекошено от злобы.
— Товарищи! В России революция! Рабочие двинулись к Зимнему дворцу. По ним дали залп. Царь бежал.
Поднялся такой шум, будто провалился пол и обрушился потолок.
— Что? Что такое? Революция! Царь?..
Японец, до сих пор сидевший молча, вскочил и крикнул в зал:
— Долой деспотизм!
Докладчик скрылся через черный ход, по дороге накинув на себя пальто. Он побежал в «Непсаву» — узнать, что случилось.
Все устремились на улицу. Участники хора соскочили с эстрады; дирижер постоял некоторое время, затем, укоризненно покачав головой, положил камертон в карман. Поднялся такой шум, что можно было разобрать только отдельные слова.
— Царь!.. Деспотизм!.. Революция!..
Доминич и Франк в этой устремившейся на улицу людской лавине оторвались от других. Некоторое время они шли вместе, затем Доминич, остановившись на улице Йожеф, сказал Франку:
— Тоничка, здесь, в этом доме, я хочу навестить одного больного друга. Иди домой один. Если жена спросит, скажи, что я зашел к больному Керекешу. Через час буду. Ну, всего лучшего! Береги себя, не простудись. И не попади, — подмигнул он, — к девочкам!
— Что ты! — тихо ответил Франк.
Доминич вошел в дом, парадное было еще открыто. Антал Франк отправился домой один. Едва Франк отошел шагов на сто, Доминич завернул на улицу Виг и подал знак первой окликнувшей его женщине. Женщина пошла вперед, он зашагал за ней по сумрачному двору, глаза его прилипли к талии женщины.
…Вьюга затихла. Прояснилось небо, и над городом расстелилась звездная, сверкающая январская ночь. С Дуная дул мягкий ветер — вестник ранней весны.
Новак расстегнул пальто и взял под руки Японца и Розенберга.
— Погуляем немножко, — сказал он. — Погода отличная. — Помолчал, глубоко вдохнул свежий воздух. — Значит, там революция…
— Да, — проворчал Японец, — потому что они знают, как надо бомбы бросать.
— Э-э! Дело не в бомбах, — ответил Новак и добавил: — С тобой надо что-то делать! Хороший парень, прекрасный товарищ, токарь — и пропадаешь!
— Напиши ты, Японец, заявление, — сказал Розенберг. — Не можешь же ты быть вне профессионального союза. Новак прав. Квалифицированный рабочий не должен становиться чернорабочим.
— Не хочу я ни от кого зависеть.
— Что значит зависеть? — прикрикнул на него Новак. — Сейчас ты что, не зависишь? Тауски выгонит тебя, когда ему вздумается. Даже союз тебя не защитит.
— Пойду в другое место!
— А, ерунда какая! Вступай обратно в союз и работай вместе с нами. Напиши ты это заявление. Напишешь? Шани, помнишь школу, учеников?
Японец улыбнулся и сжал руку Новака.
— Тот рябой учитель, — бормотал он, — не говорил, что он наш человек, как этот Барон.
— Ладно. Но нельзя же, дружище, так поступать. Всех укокошить кто тебе не нравится. Представь себе, что все стали бы так делать. За две недели вымер бы весь город.
Японец не отвечал.
— Бомбу, — пробормотал он, затем громко добавил: — Ладно, подумаю.
На площади Барош, у вокзала, расстались.
— Где живешь, Шандор? — спросил Новак.
— На улице Бема, — сказал Японец.
Новак вздохнул, услыхав название улицы.
— Зайди ко мне как-нибудь вечерком, — сказал он, — только непременно.
Они пожали друг другу руки и разошлись в разные стороны.
— Живет на улице Бема… среди воров и бродяг, — проговорил Розенберг, когда Японец был уже далеко. Он поправил шелковое кашне на шее. — Скоро порядочному организованному рабочему стыдно будет пройти с ним по улице.