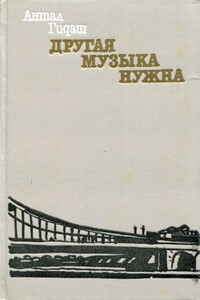Мартон смотрел на трапецию. Они учили, как надо высчитывать площадь, но теперь он не помнил. Мальчик покраснел. Он вынул трость из рук Ференца и начал писать на песке буквы: A, B, C, D.
— Основание A, — сказал он, — высота h. Высоту помножу на основание… да… а… гм… да…
Ференц настороженно слушал и ждал. Потом презрительно спросил:
— Готово?
— Подожди, — сказал Мартон и рассматривал рисунок на песке. — Основание на высоту… Да, готово! Еще что прикажешь? Спроси что-нибудь другое!
— Нет, дружочек, не так, — сказал Ференц снисходительно, — это неверно.
— Почему?
— Почему неверно? Вот трапеция. — И он показал на рисунок. — Где основание?
— Вот, — показал Мартон на более длинную линию.
— Ну, а если я переверну? — Ференц встал, и его толстые губы влажно заблестели в свете луны. — А если буду смотреть отсюда, тогда более короткая линия будет основанием. Что? И площадь будет другая?
Мартон молчал.
— Видишь, дружочек мой, не знаешь… Ну? — Ференц ждал.
— Так скажи — как! — крикнул мальчик.
Ференц сначала стал насмехаться над городским училищем и только потом сказал:
— Две параллельные линии надо сначала разделить пополам и помножить на высоту:
— Ты уже в седьмой перешел, — сказал Мартон, — а я только в четвертый.
— Это, дружочек мой, тебе скажет у нас любой третьеклассник. Советую заниматься как следует, потому что реальное — это тебе не городское.
…Днем Мартон учился в сарае. Там стояли стол и две скамейки. А в нише окна — зеркало и две бритвы. Видимо, в сарае брились. Было жарко. Мартон взял учебник французского языка.
— Je suis, tu es… Я есмь, ты…
Он был взволнован и положил книжку. Какая-то странная незнакомая теплота прошла по нему.
В соседнем доме жили две красивые девушки лет по двадцати, он думал о них. Совсем иначе, чем до сих пор. Лицо его разгорелось. Ему вспомнилась и гувернантка с площади Калвария, которая играла с девочками. У нее были длинные ноги, если б он мог обнять эти ноги! Если бы вечером в темноте соседняя девушка сказала и ему: «Мартон, войди!»
— Je suis, tu es… Я есмь, ты, он… Не буду думать о таких вещах… И если еще раз, то я… — И он бросил взгляд на бритву, лежавшую в оконной нише. Он вынул ее из футляра и открыл. — Тогда я себе горло перережу, — прошептал он. — Горло перережу себе…
Он вложил бритву обратно и с некоторым облегчением снова приступил к занятиям. Но это продолжалось очень недолго. Его снова охватило какое-то горячее чувство. Он снова подскочил к бритве и забормотал сквозь слезы:
— Господи, я перережу себе горло! Господи!
Он вышел в поле. Сел и задумался. «Так это то… Нет, не может быть!..» Потом откинулся на спину, закрыл глаза и снова представил себе девушку, но взрослую, не Лили, не Манци. Женщину, жену Новака.
Он стал безмолвным, мрачным и неуверенным. Под глазами у него залегли тени. Карой читал «Ньюгат», и Мартон попросил у него журнал. В журнале были и стихи. Он прочел впервые:
Сереет грязью рыхлой мостовая,
Но на востоке, небо расцвечая,
Над городом простер свой рисовальный лист
Рассвет, великий импрессионист.
Он вздохнул и подумал о Пеште. Поехать бы домой! Еще три недели надо сидеть здесь, в этом гнезде. Он хочет домой. Дома будет лучше.
Со стены сарая он отковырнул большой кусок извести и разломал его на двадцать один кусок. Засунул куски извести в ящик стола. «Каждый день буду один выбрасывать… Когда кончатся, уеду».
Каждое утро он заглядывал в свой ящик. Двадцать кусков, девятнадцать кусков. Медленно исчезают они. Никогда не кончатся. Ему хочется домой. Учиться он не в состоянии. С кем поговорить, у кого спросить, что с ним такое? Ференц осмеет его.
И как-то в душном сарае он рухнул на стол, с бритвой а руках. Из глаз его капали слезы.
На теплой шее он чувствовал холодное лезвие бритвы.
Мартон стал юношей.