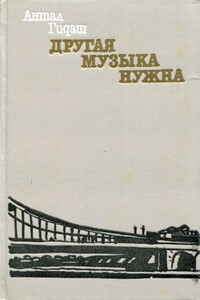А Новак распахивает дверь комнаты, так ударяет ногой в дверь, что она срывается с петель, и кричит. «Идите сюда, сын мой, дочь моя! Сюда, соседи!»
Дети выходят, собрались уже и соседи — Понграц и остальные… И Новак громко рассказывает о своем позоре, а она, вся красная, рыдает в темном углу кухни. Ребята тянутся к отцу и смотрят на нее осуждающим взглядом. А жена Понграца визжит: «Ага, ведь я говорила… Хи-хи-хи! Невинная!» — И она плюет Терез в лицо.
…Стучат в дверь. Почтальон принес письмо и деньги. Она расписывается дрожащей рукой, потом кладет деньги на кухонный стол, рядом кладет письмо. Она садится на табуретку и устало смотрит на конверт: «Терез Новак. Будапешт. Улица Магдолна, 20, 3-й этаж, 17, Венгрия».
Она заслоняет левой рукой глаза. «Написал. Он все-таки написал…» Она подносит ближе конверт. Смотрит на марку: австрийская марка. Берет конверт, как будто хочет прощупать пальцами то, что внутри него. Так и сидит она некоторое время без мыслей. В квартире и во дворе так тихо, как будто в доме никто не живет.
Вдруг она содрогается: ей показалось, что кто-то постучал. Терез приглаживает волосы и смотрит во двор. Но никто не стучал. Она встряхивает письмо, держит его против света, чтобы узнать, где разорвать конверт. Потом начинает читать:
«Милая жена моя Терез, дорогие дети Дюри и Манци!
Вы, наверное, испугались и не знали, почему я не писал так долго. Но на это у меня были причины. Месяц тому назад я послал письмо организации металлистов на проспект Текели, и, пока я не получил ответа, я молчал, потому что от их ответа зависело много. Теперь ответное письмо уже пришло; написал его сам Доминич, который теперь у нас секретарем. Я спросил у них, что сейчас будет: ведь два года, на которые меня исключили, уже прошли. Здесь, в Вене, я хорошо работал, был членом профсоюза, так что же теперь делать? Доминич ответил, что меня примут обратно, но чтобы в дальнейшем я вел себя как следует, и тогда я смогу приехать обратно. Я сейчас ничего не хочу говорить о Доминиче, потому что с меня довольно этой собачьей жизни. Словом, самое главное — ответ есть, и я смогу работать.
Я не писал вам до сих пор именно потому, что ждал, а теперь сообщаю тебе, милая жена моя Терез, что на днях я выезжаю и теперь уже не буду жить вдали от вас. Мне нужно еще устроить несколько дел на заводе и в здешнем союзе, да и проститься надо со здешними товарищами. В особенности с Корбером — ведь я уже писал тебе, как он заботился обо мне и как мне сочувствовал.
Вчера с Корбером мы пошли в Пратер. Долго гуляли и разговаривали. Мне вспомнился Городской сад, где мы так часто гуляли с тобой, милая Терез. Потом пропустили несколько кружек пива, и Корбер сказал мне: «Не печалься, друг, теперь уже все пойдет на лад».
Может быть, я еще раз напишу вам, но, может быть, и не напишу, а прямо приеду. Третьего дня я послал двадцать форинтов. Не экономь. Ешьте как следует. Болит ли еще у Дюри ухо? Не пиши больше, а то письмо может меня не застать.
Желаю вам доброго здоровья. Сегодня я чувствую себя, как в холостую пору, — знаешь, когда набил морду тем троим в парке! Едва дождусь, чтобы сесть в поезд. Целую тебя много раз, милая моя жена Терез. И детей тоже.
Дёрдь Новак».
Терез положила письмо на стол. Потом снова взяла его в руки, но видела только буквы. Она закрыла глаза. Теперь ей удалось то, что месяцами не выходило: она увидела лицо Дюри.
Лицо было таким, как когда-то давно, когда Новак ждал ее у типографии. Терез улыбалась.
Потом сразу помрачнела.
Она пошла в комнату, остановилась перед зеркальным шкафом. «Я буду молчать. Ведь не увидишь по мне…» И она поглядела на свои глаза. Пригладила волосы, взглянула на свой лоб. Потом скорчила горькую гримасу, и вдруг, будто вода прорвала шлюзы, они крикнула себе в зеркало:
— Приедет Дюри!.. Милый мой Дюрика!.. Дюри!.. — звенел голос женщины. — Дюри! Дорогой мой муж!..