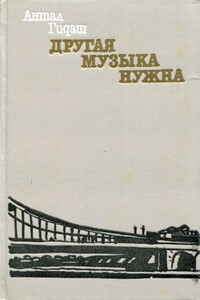Старик Шниттер в конце года самодовольно писал свой рапорт в Варадское управление школами и в рапорте не забывал упомянуть о том, «в каких проклятых условиях светит в его руке неугасимый факел нации». И он по праву ждал, что когда-нибудь получит премию в тысячу форинтов, которую раз в жизни получали учителя, следившие на окраинах страны за тем, чтобы факел тысячелетней Венгрии не погас и светил среди местного населения.
И он светил. Господин учитель Шниттер поддерживал пламя факела палкой, оплеухами, тем, что ставил на колени, — зато оно и светило. Если темнота и не рассеивалась благодаря его усилиям — «я только скромная лампадка», — говаривал он, — зато он вытеснял всякий конкурирующий с ним свет, и, надо признать, это тоже было не пустяком. Премию в тысячу форинтов ему могли бы вручить уже и за это. «Если я не получу другого звания, то, когда перейду на пенсию, буду старшим учителем, — думал господин учитель Агоштон Шниттер. — Хотя после стольких лет учительства в таком месте я заслуживаю быть инспектором училищ… Мне еще из-за сына-социалиста трудно… Ну, да стоит ли огорчаться? Проживу и старшим учителем».
Геза Шниттер, первенец старого учителя Агоштона Шниттера, готовился сперва на учителя, чтобы принять в наследство от отца школу в Бихаре вместе с румынскими детьми. «Верная служба, пенсия полагается. Чего же еще надо?» Это было мнение отца.
Но рано возмужавший мальчик поставил перед собой совсем иные цели. Он ненавидел деревню. Учился он в надькарадской школе, в суетливо кипящем провинциальном городке, который во всем подражал столице. Когда Шниттер приезжал домой на каникулы, ему бывало скучно. Скучен был отец с его вечным ожиданием премии, с вечной ненавистью к крестьянам. Скучна была мать с ее всегдашними опасениями. Скучна была деревня с ее страшной бедностью и заброшенностью. И мальчик возненавидел крестьян, одинаково румын и венгерцев: бедных — за их унизительную нужду и темноту, более богатых — за хитрость, всех крестьян — за то, что они хотели присвоить его себе. Чтобы он, единственный, кроме нотариуса и попа, горожанин, стал «нашим» учителем.
Он решил стать преподавателем средней школы. Преподаватель средней школы — это более высокое звание, оплачивается лучше, и средние школы находятся в городе. Но в столице, готовясь в университет, он сделал резкий поворот: стал писать. Год или два писал стихи. Несколько его стихотворений было даже напечатано в журналах, но затем от его сочинений стали отказываться все чаще. Тогда он написал большую драму и, после того как ни один театр не взял ее, принял новое решение и оставил литературу так же внезапно, как и пришел к ней.
Занятия литературой для него не пропали даром. Он познакомился с немецким натурализмом — Гергардтом Гауптманом и другими, даже с несколькими современными поэтами, например, с Демелем, Верхарном. Ему попалось в руки несколько левых журналов, из которых он узнал, что есть какое-то социал-демократическое движение и что социал-демократы в Германии и во Франции имеют представителей в парламенте. Из Германии он выписал себе несколько книг, изданных немецкими социал-демократами, прочел их одну за другой, «Женщину и социализм» Бебеля он проглотил за один день и после этого пошел в центральный орган венгерской социал-демократической партии и предложил свои услуги.
На той стадии венгерского рабочего движения интеллигент, в особенности человек, окончивший университет, был в партии редкостью. Его вовлекли в работу, правда чувствуя к нему некоторую зависть. Но им гордились: вот, дескать, как широко уже распространяется движение! В самый короткий срок он усвоил стиль, который, по его мнению, был необходим в обращении с рабочими: лжепростоту, панибратство и, если это требовалось, агрессивность.
Он продолжал изучать немецкую социал-демократическую литературу. Однажды принялся даже за «Капитал», но прочел только первый том; для второго и третьего требовалось слишком много времени, а может быть, и больше теоретических знаний, чем было у него. Вероятно, он со временем и сумел бы овладеть теорией, если бы чувствовал необходимость этого.