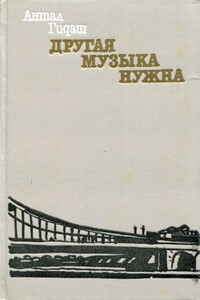Стояла скверная, холодная зима. Дров нужно было вдвое больше, чем обычно, но за починку обуви заказчики не платили ни на крейцер больше. Даже меньше платили, да еще и торговались по получасу.
Когда открывалась дверь мастерской, поднималось густое облако пара. Окно замерзло, на стекле сверкали причудливые снежные узоры. За этажеркой топилась маленькая печка, чтобы и «квартира» и мастерская нагревались одним духом. Но все это не помогало. Холодно было в мастерской, холодно было в «квартире». Дети сбились возле печки. Фицек топал ногами.
— Заткни тряпкой щель, мне дует в ноги!
Отто ткнул обрывок мешка в нижнюю прощелину двери. Дети с утра присмирели.
— Берта, подложи немного углей, не то я к стулу примерзну.
Жена и не пошевелилась. Она смотрела через этажерку на снежные узоры окна.
— Не очень-то расщедривайся, еле-еле на две лопаты наберется.
Принесли поставить заплату. Работа на десять крейцеров, да и то можно было оставить до воскресенья. Но заказчик сел, по всей вероятности, погреться.
— Холодно, господин Фицек!
— Да, холодно.
— В воскресенье выборы. За кого голосуете — за Важони[2] или за Хиероними[3]?
— Ну конечно, за Важони, сердце мое принадлежит ему. А ваше?
— Мое тоже.
— Имеется ли у вас, почтеннейший, право голоса? — спросил с подозрением Фицек.
— Права голоса нет, но если б было, я бы за него голосовал.
— Вот и у меня тоже нет. Я и про вас так подумал сразу.
Клиент ушел. Отто подбежал к двери, плотно заткнул щель мешком.
— Что будет на обед, Берта?
— Это и я хотела бы знать!
Фицек положил колодку, на которой он разрезал старый ботинок на заплаты, повернулся назад и посмотрел через этажерку.
— Не хочешь же ты сказать, Берта, что дома ничего нет? Что, не будет обеда?
Жена не шелохнулась. Ребенок, которого она кормила, уцепился за грудь.
— Хочу не хочу, а это так.
Ребята, сбившись за этажеркой у печки, смотрели на отца.
— Из сил выбиваюсь, а никак не заработаю сколько нужно. Работаешь, работаешь, работаешь, как скотина… Муки у тебя тоже нет?
— Нет.
— Картошки?
— Нет.
— Сала?
— Нет.
— «Нет», «нет»! Конечно, нет, потому что заранее надо заботиться, с расчетом нужно жить.
— Рассчитывай ты из ничего. Попробуй ты без денег обед сварить.
— Деньги! Деньги! Это я уже двенадцать лет слышу. Утром встанешь: «Дай денег!» В обед раскроешь рот: «Дай денег!» Вечером ложишься: «Дай денег!» Еще хорошо, что ночью не будишь и не говоришь: «Фери, денег дай!»
Фицек поднялся уже от верстака. Надвигалась буря.
— Ты не шуми, — ответила жена, — А коли есть хочешь, то и достань все, что надо.
— Может быть, тебе каждый день по десять форинтов давать? Почтенная госпожа Фицек, урожденная Берта Редеи, целую ваши ручки, вот вам десять форинтов, и сварите мне немного похлебки, немного картофельного супа, — так, что ли, надо, да? Так и дурак сумеет. Почему жена Ракитовского кормит каждый день своего мужа обедом? Потому что она с расчетом живет, потому что у нее башка варит.
— Потому что у него, милый господин Фицек, только двое детей, а не четверо, как у нас. Потому что у него двое подмастерьев и он не такой голодранец, как вы, милый господин Ференц Фицек.
Фицек не ожидал такого тона.
— Трепать языком умеешь, это я вижу. На это ты мастерица! Но чтоб удариться слегка головой об стенку или чтоб прыгнуть хоть разок в Дунай со своими щенками, на это у тебя ума не хватает.
— Сам прыгай с ними в Дунай. Твои ведь небось.
Ребята молчали.
— Может, ты хочешь сказать, — начал снова Фицек, — что я никогда ни крейцера не принес домой? Очень, милостивая государыня, хвост распустила. Лучше корову взял бы себе в жены — та бы хоть молоко давала.
Жена Фицека покраснела.
— Мели, мели своим грубым языком перед ребятами! Мне уж так хорошо с тобой…
— Смотри, она еще нос задирает! Она еще жалуется! А не боишься ли ты, ненаглядная женушка, что я на тебя этажерку опрокину? Может, в прислугах тебе лучше жилось? Может, все в креслах сидела, сударыня, целую твои сахарные губки? Чтоб тебя громом разукрасило!
Пишта счел за лучшее уединиться и полез под кровать, оттуда выглядывал горящими глазами.
— Ты, может, жалеешь, что моей женой стала?