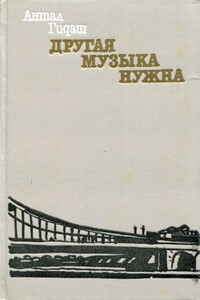— Дайте расчет, господин Фицек. Что же еще остается делать? — ответил Шимон.
— Но, милый, я не хочу, чтобы вы остались безработным! Это очень скверная штука. У меня есть сердце, и я знаю, что это такое. Сейчас я был у Поллака. Он предлагает работы сколько влезет. Союзки — хоть целый воз. Платит полтора форинта. Повысить плату нельзя. Все равно не выйдет. Шимон, Флориан, уступите вы немного — скажем, шестьдесят пять, семьдесят крейцеров… ну, видите, есть у меня сердце… и тогда я могу взяться, тогда работы будет вдоволь, и вы сможете заработать и я. Подумайте, Шимон, Флориан… Я уважаю ваши расценки, но что же делать?.. Писать цифры может каждый, цифры заработать надо… Я только добра вам желаю, уж поверьте вы мне.
— Спасибо, господин Фицек, спасибо за ваше хорошее отношение, — ответил Шимон, — но в расценках мы ни на крейцер не можем уступить. Принцип!
— Принцип, принцип… — повторял г-н Фицек раздумчиво. — Красивое слово, да только принципом сыт не будешь. Знаете что? Ну, пусть будет принцип, чтоб и волк был сыт, то есть Поллак, и овцы целы, то есть союзка. Я никому не расскажу. Если кто спросит, отвечу: клянусь своими детьми, что вы работаете строго согласно расценкам. Но уж больше этого я ничего не могу сделать. Шимон, Флориан… подумайте. Принцип тоже должен быть гибким! Работы будет сколько влезет.
Шимон молчал. Посмотрел на Флориана, но тот был углублен в работу. Тогда заговорил Шимон:
— Нельзя, господин Фицек!
— Вы губите и себя и меня!
На это Шимон уже не ответил.
Господин Фицек, остановившись у окна мастерской, глядел на улицу. Затем обернулся, сел к верстаку, вздохнул. «Моя будущность гибнет из-за двадцати пяти крейцеров, — подумал он. — Хоть бы Поллак дал на двадцать пять больше или Шимон уступил бы двадцать пять». Он вытащил ботинок, ожидавший починки, и принялся ставить набойки.
— Ну что ж, Шимон, видно, суждено нам расстаться навсегда. Через две недели получите расчет.
«Заставь-ка лошадь молиться, — думал он про себя. — Принцип… Что за принцип, если от него человек безработным станет? Хорошенький принцип! Ну да ладно!»
Разговор в мастерской прекратился. Мартон вернулся обратно и стал смотреть, как работают. Он больше всего любил следить за тем, как исчезают деревянные шпильки в проткнутых, замазанных клеем дырах.
Господин Фицек работал, затем сплюнул и затянул песню:
Шел я в Чонград, надо мною
Звезды ясные сверкали.
Хоть меня они не знали.
Путь сиротке освещали.
Вторую строфу подтягивали уже и подмастерья и ребята, которые вылезли, заслышав песню. Шимон подпевал, Флориан забирал высоко, ребята пели тонко-тонко, как маленькие, тощие органные трубы, и голоса их улетали куда-то ввысь.
Мать родимая страдала,
Тяжко ей со мной пришлось:
Днем стирала, ночью пряла…
Ой, как горько нам жилось!
Господин Фицек задумался.
— Эх, господи! — сказал он. — Из ничего ничего и будет. — И медленно и тихо запел:
Вторая строчка зазвучала как жалобный стон:
Глаза его от слез красны…
— Шимон, дайте мне эту бутылку с гуммидрагантом.
На шляпе черный крест нашит…
— Щенок, деревянные шпильки давай!
Несет, бедняга, труп жены…
Господин Фицек стучал молотком, не поднимая глаз. На лице у него было умиление. И снова тихо, голосом, берущим за душу, он завел:
Ох, жизнь! Какой она хитрец!
Ударил по башмаку:
— Шимон, подумайте вы об этих расценках!
Но Шимон, не прерывая пения, отрицательно мотнул головой, и г-н Фицек продолжал песню:
В долгу я, что ли перед нею?
Посмотрел на двух распевающих подмастерьев, на кучу своих детей и снова самозабвенно затянул:
Отдам я долг свой — и конец!
Умру — и сам не пожалею.
— Эх, Шимон, бедному человеку лучше всего не родиться!
В таком настроении шла работа до конца дня. После работы Шимон и Флориан пошли в союз. Был еще светлый летний вечер. Г-н Фицек возился у верстака. Ребята в комнате подрались.
Пишта нашел украшение от люстры: шестигранную стеклянную призму, которая разлагала солнечный свет на все цвета радуги. В первые дни, пока не надоело, такая игрушка ценилась очень высоко, потом ее забывали среди остального хлама или на уличной детской бирже обменивали на игрушку соответственной ценности.