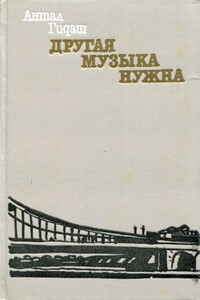— Что случилось, сударь?
— Сейчас идет забастовка приказчиков-мясников. Это бастующие…
— Штрейкбрехер… Кто застрелил?
— Полиция!
Толпа нарастала. Все спрашивали, все отвечали, но вдруг послышалось цоканье подков: конная полиция. Лошади мчались прямо на тротуар. Мартону они казались такими огромными, как будто целый дом двинулся на него. Заблестели сабли, и полицейские начали бить людей.
— Вот где достается народу! — заорал кто-то.
Конные полицейские сметали толпу, и тут уже досталось всем без исключения, «всем беднякам поровну».
Мартон со страху забился в подворотню, сабля полицейского блестела в свете газового фонаря. Мальчик, дрожа, ждал, пока пройдет опасность. Глаза его выкатились, и в кулаке он сжимал полученные деньги.
Загудела машина «Скорой помощи», и санитары стали выносить окровавленного, потерявшего сознание приказчика.
Конные полицейские поскакали обратно, перед ними с криком бежали люди. Улица вымерла.
Мартон направился домой.
Перед дверью лавки стояли Шимон, Флориан, г-н Фицек и какие-то чужие люди. Штора была наполовину опущена. Все говорили быстро, перебивая друг друга. Мартона и не замечали.
Наконец г-н Фицек перекричал всех:
— Я тоже хотел организоваться! Но убивать… людей убивать… что же это такое? Как можно? Лучше никогда не буду организованным!
Мартон, бледный, протискался к Шимону.
— Дядя Шимон, у мясника…
— Знаю… Дай сюда деньги, — сказал Шимон коротко. — Вот тебе жалованье за неделю. — И он дал мальчику два крейцера.
Потом все вошли в мастерскую и рассуждали до поздней ночи. В конце концов и Шимон и Флориан решили, что поздно и поэтому они как-нибудь устроятся в мастерской, хоть на полу, а домой не пойдут, чтобы завтра, в воскресенье, вымыться в бане на улице Клаузаль, куда возьмут с собой и Мартона. Только мальчик пусть встанет вовремя, а то позже вода в бассейне уже грязная.
Мартон убрал мастерскую. Подмастерья улеглись. На улице не было никого, и луна, блестевшая над домами, осветила мастерскую.
ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА,
в которой Фицек приступает к реализации более скромного плана и высказывает свои взгляды о принципе, в то же время читатель ознакомится с новыми играми, а Мартон наконец выполнит свое обещание, данное трамваю № 254
1
Размышление — трудная штука. Оно требует всех сил и внимания. Человеку, который размышляет, нельзя мешать, заставляя его делать грубую, так сказать, физическую работу. Вероятно, поэтому и поступили мудро в такой стране, как Венгрия, оторвав физическую работу от умственной. Тот, кто размышляет, вернее, кого общество уполномочило размышлять вместо других, пусть не унижает себя простым физическим трудом. И напротив: тот, кто выполняет физическую работу, пусть не размышляет. Мудрое разделение труда, только, к сожалению, его нарушают повсюду. Есть много людей, которые и не размышляют и не работают, а вот рабочий все чаще начинает размышлять.
Надо признать, что из-за этого произошло уже много недоразумений.
Господин Фицек знал, что размышления отнимают все силы и внимание, и так как он третий день ломал над чем-то голову и «выдумывал», то, следовательно, он третий день не работал.
Во-первых, он купил прошивочную машину Зингера с условием выплачивать по форинту в неделю; во-вторых, он завел переговоры со старьевщиком на площади Текели, с г-ном Поллаком, у которого были три палатки и который за союзку платил полтора форинта.
— Я уже сказал вам, — повторял усатый Поллак, разгуливая по своей прохладной палатке, наполненной дешевыми башмаками, — подошва может быть хоть из папиросной бумаги, лишь бы покупатель этого не заметил, пока он в лавке. Потом… — И он засмеялся от всего сердца.
Господин Поллак уже привык ко всему, г-н Поллак ничему не удивлялся, и, главное, его ничто не могло расстроить.
— Кто покупает на площади Текели, должен быть готов ко всему. Правда, кто приходит покупать на площадь Текели, у того денег нет… Но, господин Фицек, в том-то и дело… За ничто и получай ничего, верно?
— Верно, верно, — кивал головой г-н Фицек. — Но мне-то как союзить за полтора форинта? Только если своей собственной шкурой, а ведь этого вы, господин Поллак, не можете требовать?