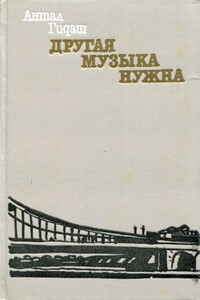— Зря просаживать четыре форинта?.. Где это слыхано?.. Я ни в какой класс не ходил — и все-таки живу. Четыре форинта! Ученым человеком станет и в конце концов наплюет на тебя…
Правда ли боялся г-н Фицек того: чем ученее станет сын, чем более «барином» станет, тем больше отдалится от него, — или просто жалел четыре форинта, а также досадовал, что мальчишку нельзя тотчас же пристроить к делу, кто знает? Наверное, и то и другое было ему неприятно. Он боялся чужой породы. От «них» он терпел позор и унижение, а теперь его сын переходит к «ним».
И г-н Фицек, устав от борьбы, заявил:
— Ладно, пускай учится, но я ни гроша не дам.
Жена спокойно приняла к сведению это заявление и, собирая по крейцерам, стала платить за мальчика в школу.
Муж смотрел на эту деятельность ревнивым, подозрительным взглядом и не раз кипятился:
— Этот сорванец еще подумает, что ты даешь деньги. Чьи это деньги? Может, ты их зарабатываешь?.. Крадешь из тех, что я даю на харчи. Теперь я знаю, почему у нас никаких заработков не хватает!
Господин Фицек не ходил в школу, его жена тоже окончила только два класса начальной школы. Г-н Фицек до двенадцати лет пастушил под Уйфехерто, где его мать была огородницей, а он сам пас гусей. Мальчик валялся с утра до вечера на лугу, смотрел на небо, на облака и в десять лет курил уже трубку. Когда ему исполнилось двенадцать, его отдали в Ниредьхазу учеником.
С тех пор все родственные связи у него порвались, осталось одно — он еще долго тосковал по матери. Но это были скорее пустые признания в любви, которые он делал больше для самого себя, потому что, хотя Уйфехерто было в двухстах километрах от Будапешта, прошло тринадцать лет, пока он решился поехать проведать свою мать.
Правда, на проезд особенно много денег не нужно, но г-ну Фицеку и это было трудно истратить. Билет туда и обратно — шесть форинтов, да неделю он не сможет работать — это тоже по меньшей мере десять форинтов убытку; какие-нибудь гостинцы надо повезти, с пустыми руками не приедешь! Словом, для реализации любви к матери требовалось не меньше двадцати форинтов. А сколько раз в жизни бывало у г-на Фицека лишних двадцать форинтов? Из своего заработка — никогда.
Жену, когда ей было тринадцать лет, отец привез в Пешт из Дёр-Сентмартона, где старик был шорником, и в Пеште нашел ей работу. Она переходила от одних хозяев к другим и под конец до самого замужества жила у еврея-домовладельца Гольдштейна. Экономила, экономила девушка, чтобы из шести форинтов в месяц и домой что-нибудь послать, и купить немного белья, да немного мебели, и приданого, но даже через десять лет, несмотря на самую строгую экономию, сумма ее сбережений не превышала ста форинтов. Это и было приданым невесты Фицека, когда после года ухаживания он взял ее в жены, предварительно встретившись в Геделе у пекаря Кевеши с отцом девушки, не менее скупым на слова, чем она сама.
— Я сразу понравился ему, — гордо рассказывал Фицек при каждом случае, когда вспоминал свою встречу с тестем. — Ну, да это и понятно, — добавлял он.
Жена его, прослужив в барских домах, выучилась кое-чему. По воскресеньям она ходила в театр, на галерку, и даже много лет спустя вспоминала об этом как о самом чудесном, самом красивом. Восторженно рассказывала, каким был театр — этот сад фей ее молодости, как пели Блаха с Видором в «Дезертире», как в «Продавце птиц» один охотник прыгнул на сцену. И через двадцать лет иногда она до слез смеялась над тем, как кричали в оперетке: «Господи, что мне делать, где взять мне дикую свинью? — и как отвечали: «Возьми домашнюю свинью, гоняй, гоняй ее до тех пор, пока не одичает…»
Кроме этих случаев, она никогда не вспоминала о своей молодости. Никогда не жалела о том, что уже не молода, — ни сейчас, когда ей шел уже тридцать шестой год, ни позже, когда было больше сорока или когда перешагнуло за пятьдесят. У нее всегда было столько работы, что такие бесполезные мысли не приходили ей в голову. Она работала, работала с утра до вечера, руки ее скрючились от работы, пальцы разгибались с трудом, а ладони были такие шершавые, что, если она изредка гладила сына, ребенку казалось, будто по лицу его проводят наждачной бумагой.