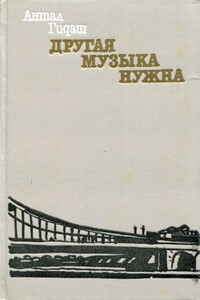— Куда едете, земляк? — окликнул он сидевшего напротив.
У крестьянина была огромная нижняя челюсть и такое угловатое лицо, будто под кожей лежали камни. Костлявыми и распухшими в суставах пальцами он расправил редкие бесцветные усы, мешавшие ему есть.
— В Дёр, — ответил он коротко и очень аккуратно положил на хлеб новый кусочек сала.
— Я тоже туда еду, — проговорил Новак. — На работу?
— Да.
— К кому?
— К попам.
— К дёрским?
— Нет. Там я только пересяду.
— А потом?
— Потом приеду.
— Куда?
— В Панонхалом.
Новаку казалось, что он на заводе выколачивает из котла старые ржавые заклепки.
— На какую работу? — спросил он снова.
— На жатву еду. С ними.
И человек, жующий сало, сейчас впервые взглянул из-под шляпы на Новака, да и то не в лицо, а скорее на грудь, и указательным пальцем показал на остальных крестьян, которые дремали на скамейках.
Новак снял сундучок. Открыл.
— А вы? — послышался короткий равнодушный вопрос, будто спрашивавший вовсе и не ждет ответа.
— Я тоже еду на работу, — сказал Новак и, не получив никакого ответа (крестьянин только неутомимо работал челюстями), продолжал: — Я токарь, но теперь буду работать на молотилке. В монастыре. Вместе будем.
— Вы, сударь, организованный рабочий?
— Да.
— А я председатель Надудварского союза батраков Лайош Рошта.
Он зажал ножик между коленями и протянул руку.
Новак тоже назвался, и тогда попутчик стал несколько разговорчивей.
6
Лайош Рошта был, в сущности, землекопом. Когда-то он имел восемь хольдов земли и единственным стремлением его было получить девятый хольд. Жена, пятеро детей — и восемь хольдов земли. Он был умным и недоверчивым человеком. Всегда жаловался. Из тех немногих слов, которые он произносил, половина уходила на жалобы. Теперь трудно было бы определить истинную причину этих вечных жалоб, потому что сейчас они шли уже от его натуры. Даже в урожайные годы, когда американская пшеница еще не нарушала его расчетов или когда он стал землекопом и сравнительно хорошо зарабатывал, даже и тогда громоздил он одну жалобу на другую.
Откуда лились эти жалобы? Люди привыкли за тысячу лет, что и в хороший год, и в плохой — одинаково надо быть недовольными. У его предков, крепостных, помещик отнимал последний кусок, сколько бы они ни жаловались.
Теперь уже не было помещика-крепостника, вместо него пришел другой, новый господин, который разорял хуже засухи. Лайош Рошта основательно испытал власть этого другого.
Восемь хольдов земли он вспахивал, засевал и с восьми хольдов собирал вместе с семьей урожай. Были у него и корова и свинья, но, кроме все возрастающего налога и соперничества американской пшеницы, его беспокоил девятый хольд земли.
Девятый, десятый хольд земли, который он хотел раздобыть, потому что семья велика, все больше ртов тянется к хлебу, жизнь тяжела и ему грозит гибель. Дожить бы до того, чтобы ему не приходилось вечно дрожать за завтрашний день. Сколько для этого нужно хольдов? Десять, двадцать, тридцать, сто? Вся Венгрия? Кто знает? Одно ясно: сейчас ему нужен девятый хольд, потому что девять больше восьми.
От пшеницы дохода мало. Она не выдерживает конкуренции американской пшеницы. Он решил, что будет сеять кукурузу и разводить свиней, будет молоть кукурузу односельчанам, скопит денег и купит девятый хольд земли, первую ступеньку, ведущую к уверенности и к спокойствию. Купил в рассрочку большую машину для перемалывания кукурузы. «Как-нибудь выплачу в рассрочку». Подписал разные обязательства: о процентах за отсрочку, о право собственности — и посеял кукурузу. Но в том году кукурузы родилось мало. Попросил отсрочку, получил. Затем проценты за отсрочку стали нарастать, и напрасно работала машина. В эту машину был уже вложен целый хольд земли, а выплатил он все еще только одну треть. Снова отсрочка, снова процент за отсрочку.
Год-два — и машина перемолола уже два хольда его земли, а он все еще оставался должен половину. Меньше земли, и дохода меньше. Он готов был швырнуть машину обратно городским торговцам: «Берите!» — но уж очень жалко было. Чистых триста пятьдесят форинтов, около четырехсот пятидесяти форинтов процентов, всего восемьсот форинтов всадил он в нее, и теперь просто так возвратить? Нет! Он боролся. Дрался со стальными зубьями машины, но та молола все быстрее, все с бо́льшим аппетитом — и в конце концов смолола и последнюю полоску земли; и даже тогда все еще оставалось сто форинтов основного долга. Проценты, как острые зубья, изгрызли уже втрое большую сумму.