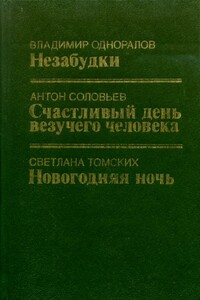— Да-а… — наконец в раздумье говорит он и садится, поворачивается к жене, чешет взлохмаченные подушкой жидкие волосы.
Он не такой суеверный, как Прасковья Прохоровна, и не думает, что со средним сыном что-то случилось, но беспокойство уже и его трогает. А кроме того знает старик, что жена его теперь долго не сможет забыть это, и если, не приведи бог, в самом деле что-то стряслось с Николаем, она не простит ни себя, ни его…
— Дед, беги за билетом. На самолет надо, на самолет… Поездом-то долго.
— Поедешь? — все еще сомневаясь, спрашивает дед.
— Поеду, — отвечает Прасковья Прохоровна.
Дед тяжело слезает с кровати, подтягивает старые, до дыр проношенные кальсоны, находит будильник и, не включая свет, смотрит у окна который час.
Он вздыхает и начинает одеваться.
— Деньги-то давай… — говорит.
А на улице глубокая ночь и ветер надул на подоконник маленький горбатый сугробик. Дед одевается и думает о том, что городские кассы закрыты и ему как-то надо добираться до самого аэропорта. Покупать билеты там.
Ивы на берегу молятся под ветром своему богу, сгибают в поясном поклоне податливые гибкие тела, вперед вытягивают простоволосые ветви. Сама река белеет барашками, такими крупными меж узких берегов, что Саньке даже здесь, в шалаше, немножко боязно: а что если барашки надолго останутся, ведь они с дедом и с дядей Витей приплыли сюда на лодке — как же назад плыть, перевернуться ведь можно…
— Деда, а, дед, а барашки скоро пройдут? — дергает он деда за рукав простенькой серой рубахи, хрустящей под пальцами давно высохшим и задеревенелым потом.
Дед поворачивает голову, смотрит добро на внука и треплет Саньку тяжелой, пахнувшей травяным едким духом и куревом ладонью по сивым, выцветшим на деревенском летнем солнце вихрам, успевшим отрасти с тех пор, как Санька уехал из дома. Треплет легонько, но все же жилистую дедовскую силу внук в этой ладони чувствует и оттого боится меньше.
— Скоро, Санька, скоро пройдут… Чего ж им не пройти, да ты не волнуйся, посмотри красота-т какая…
Санька смотрит на барашки и молча соглашается с дедом, река и правда красива. И он вспоминает свою большую книжку «Сказки Пушкина», где на цветной картинке изображено море, из которого выходят богатыри, и по морю бегут такие же барашки. Он пытается представить себе, как из реки сейчас выйдут похожие на книжных богатыри — бородатые и усатые, в тяжелом вооружении, светящемся под луной — и в самом деле представляет. Но богатырей почему-то оказалось гораздо меньше, чем на картинке, и Санька понимает почему — река не море, где же в реке поместиться такой уйме богатырей.
Он смотрит на деда, а тот повернулся к выходу из их маленького шалаша и разглядывает ивы, низкорослые, но развесистые, и реку, потемневшую, вздувшуюся от предчувствия не́погоди, думает о чем-то своем и пускает желтый дым от остро пахнущей папиросы в надоедающих комаров.
— Деда, — не унимается Санька, — гроза скоро будет?
Теперь дед вытягивает худую, вздутую жилами шею и выглядывает наружу, смотрит на темное вечернее небо — вправо, влево, вперед…
— Да, похоже, стороной минет. А ты, дружок, никак грозы боишься?
— Ну да… — Санька задиристо вскидывает голову, — медведя не испугался, а грозы-то уж и подавно…
— Ну, молодца, коли так, — сдержанно, чтобы внука не обидеть, улыбается дед.
А Санька снова вспоминает богатырей и думает про то, откуда они берутся. И решает, что наверное, вот из таких же сильных людей, как его дед. Только богатыри все, как на подбор, бородатые, а дед — нет. А приклей ему бороду, то очень походил бы на богатыря. Санька смотрит на деда, стараясь, чтобы тот не заметил его взгляд, и жалеет, что у деда нет бороды. Какой бы тогда дед получился — загляденье. Усы у него есть — седые, чуть желтоватые, а вот бороды нет — жалко. Даже чуточку обидно.
— Деда, а почему у тебя бороды нет?
— Эк тебя… А не растет… Да ты спи, спи, завтрева чуть свет подыму, смотри, спи…
Санька откидывается на спину, отодвигает в сторону руку тяжело сопящего во сне дяди Вити и честно закрывает глаза, но о сне он и не думает, какой тут сон, когда за один день увидел столько, сколько, считай, за всю свою жизнь не видел.