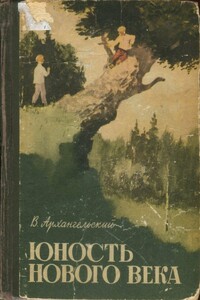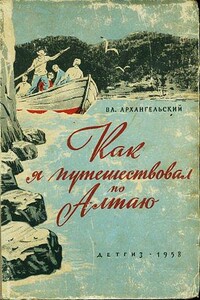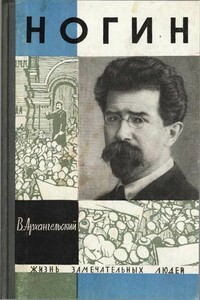— Будем живы, все вернемся к родным пенатам. Кстати, мне нужны кое-какие самарские фонды для наградных за взятие Уральска. Что посоветуете?
— Шашек нет, все револьверы у вас. Кажется, есть на складе сотни часов: и золотые, и серебряные, и чугунные «луковицы» от Павла Буре. Могу отдать.
— Часы — это хорошо! И есть еще просьба, Валериан Владимирович. Прибудет без меня отряд ивановцев. Прошу встретить его и направить ко мне в Уральск Андреева, Волкова, Фурманова и Шарапова…
Через день самарские часовщики и граверы подготовили большую партию карманных часов с красивой вязью на крышке: «За Уральск», «За храбрость». И Сиротинский заполнил ими поместительный портфель.
7 февраля 1919 года, на рассвете, командарм-4 на перекладных тронулся в сторону Уральска. Бескрайная степь четыре дня то слепила глаза при ярком солнце, то густо накрывала метелью. Скрипели сани на наезженной дороге, вязли в чичерах, проваливались в снежные заметы по оврагам.
Через несколько дней проехал по этой же дороге и Фурманов, записав в дневник свои впечатления. «Мы ехали степями… и дивились на сытую жизнь… богатых сел, деревень. После голодного Иваново-Вознесенска, где месяцами не давали хлеба ни единого фунта, где жили люди картофельной шелухой, а картошку ели взасос и на закуску, нам после этого сурового голода степная жизнь показалась сказочно привольной, удивительной и не похожей ничуть-ничуть на ту жизнь, которою жили мы вот уже полтора голодных года.
Было здесь и другое, что отличало степную жизнь от нашей северной: близкое дыхание фронта. Степь была как вооруженный лагерь: она полна была и людьми, и лошадьми, и скотом, и хлебом — мобилизована для фронта. Здесь и разговоры были особенные — все про полки, про казачьи сотни, про недавние бои, про смерть близких людей. Попадались то и дело раненые, приехавшие в семьи на поправку. Мы остро чувствовали, что едем в новую жизнь».
Так же ехал в новую жизнь и командарм-4, постепенно вживаясь в обстановку уральской степи, где вот-вот придется бросать в бой массы людей, и пристально вглядывался в ландшафт, и жадно прислушивался к разговорам при ночевках. Бойцы, находившиеся на побывке, старались не задерживаться дома. Это радовало: боевое товарищество окрепло в битвах с беляками, и обстрелянные красноармейцы не желали пропустить «последний и решающий» бой с контрой. Но чем ближе был Уральск, тем чаще критиковали бойцы кой-кого из командиров: мол, и голова у них идет кругом при самой малой победе; и с соседними полками на ножах, словно разным богам молятся; и в загул идут легко, только помани их самогоном; и, бывает, мужика обижают без надобности; а есть и еще похлестче — таскают за собой бабу в обозе. И после откровенной беседы, когда боец выкладывался начистоту, не скрывал он вздоха, что нет над командирами в уральской степи славного рубаки Чапаева…
— А что с ним, Федор Федорович?
— Учится в академии.
— Это я знаю. Меня интересует, почему учиться послали, если о нем так одобрительно отзываются на каждом нашем привале?
— Боюсь, все дело в этой популярности: она и стала для него роковой. Кому-то это не нравилось. Тем более что при крутом нраве он резко отзывался о позиционной тактике войны и требовал большой маневренности.
— Так это то, что нам нужно!
— Вам нужно, и мне, пожалуй, потому что я не расхожусь с вами во взглядах. А кому-то это не нравилось, к примеру, моему коллеге по Отдельной армии Хвесину. Чапаев был с ним на ножах. И об их неприязни сложили анекдот: «Один тонко режет, другой толсто рубит!»
— Не понимаю!
— Хвесин до военной службы был парикмахером, а Чапаев — плотником… Но расстались с Чапаевым чин чином. Я нашел в штабе характеристику. В ней есть все: и умение в боевой обстановке владеть современной массой, и личное обаяние героя, отличающегося беззаветной храбростью, и понимание маневра и удара. Даже сказано, что он обладает военным здравым смыслом.
— Но мне не нравится «здравый смысл» тех, кто усадил за парту образцового командира в такое время. Тут явная ошибка, Федор Федорович! Напомните мне о Чапаеве, когда вернемся в Самару…