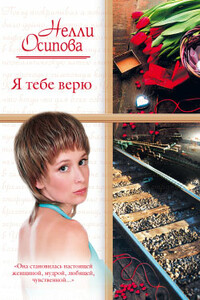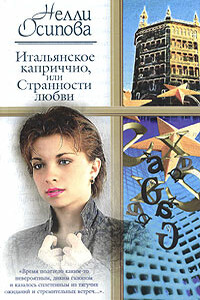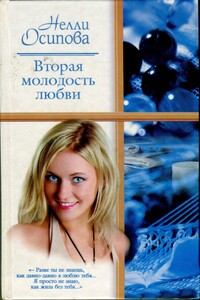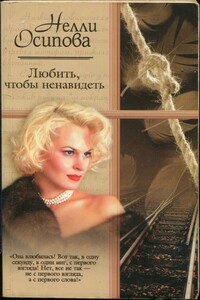В сентябре я пошла в первый класс, где была самой младшей, потому что в те годы полагалось начинать учёбу с восьми лет, а мне исполнилось только семь. Поскольку я уже умела читать и писать, то папа решил, что нечего без толку пропускать год, привёл меня к директору 101-й школы, Евгении Лазаревне, и она, проэкзаменовав меня, дала добро. А мама отправилась в институт, к своему профессору. Домой мы вернулись с самыми разными впечатлениями: я — в восторге от школы, новых знакомств и, главное, от своей первой учительницы, Ольги Сергеевны, которая показалась мне настоящей красавицей (сохранившаяся с той поры фотография вовсе не подтверждает этого); мама — понурая, какая-то обмякшая, притихшая. Из всего разговора родителей я помню только одно: когда мама постучалась в дверь кабинета профессора и вошла, там сидели совершенно незнакомые мужчины. Она извинилась и хотела уйти, но ей настойчиво предложили войти. Мама просидела там больше часа, отвечая на их странные вопросы: почему вы пришли сюда — ведь диплом вы уже получили? Почему именно вашу работу профессор решил представить в качестве диссертации? Какие отношения связывали вас с ним? Бывали ли вы у него дома?
Как я уже рассказывала в начале своего повествования, всё, что мне приходилось невольно слышать в разговорах взрослых, я привычно отбрасывала от себя, не пытаясь даже вникать, анализировать: разговоры взрослых не для моих ушей, мне не следует туда лезть. Но слова откладывались в моей памяти и впоследствии вдруг странным образом обнаруживались, словно их сохраняли в старинном сундуке. А вот лица родителей — растерянное мамино и встревоженное папино — и сейчас стоят перед глазами. Были ли они испуганы — не знаю, не помню. Что означала диссертация, работа на кафедре, исчезновение профессора — я, видимо, просто не понимала. Помню только, как через несколько дней папа осторожно бритвой вырезал почти все фотографии преподавателей Тбилисского сельскохозяйственного института с первой страницы маминого выпускного альбома, оставив всего три или четыре лица. Позже выяснилось, что такую же процедуру проделали мамины однокурсницы, тётя Шура и тётя Тамара. Пройдут годы, и во многих городах нашей страны, в самых разных семьях, в которых мне доведётся побывать, я буду наталкиваться на нечто похожее: коллективная фотография, на которой тушью или чернилами замазаны отдельные лица.
Огорчила ли маму эта история? Была ли она разочарована, раздосадована тогда или позже, оттого что не продолжила свою работу и уже никогда не работала по своей специальности? Не знаю. Я никогда не спрашивала её об этом, а она не рассказывала.
Как часто мы забываем о многом спросить своих родителей, даже не представляя себе, как потом, после их ухода, это обернётся сожалением, досадой и будет вечно терзать нас. Почему, почему не спросили? Только ли из-за молодого легкомыслия и недостаточно внимательного отношения к старшему поколению? А может быть, в душе каждого из нас живёт некое защитное чувство — уверенность в бессмертии наших родителей, и потому мы думаем, что всё ещё успеется, обо всём расспросим, про всё поговорим, всем поделимся, — ведь жизнь так велика…
Маме так и не пришлось работать по специальности.
С тех пор пройдёт всего одиннадцать лет, — господи, что я говорю! «Всего»? В эти годы уложились Великая отечественная война, потеря родных и близких, переезд нашей семьи в Москву, — наступит август 1948 года и грянет знаменитая сессия ВАСХНИЛ с её «открытиями» и «закрытием» генетики. А в сентябре я стану студенткой первого курса Московского ордена Ленина мединститута, нашего знаменитого МОЛМИ. Надо ли говорить, как профессура и педагоги впихивали в нас выводы и решения знаменитой сессии, как возвеличивали имя Лысенко и как мы — восемнадцатилетние чистые, наивные души, представлявшие собой, что называется, tabula rasa, — жадно впитывали новые знания, безоговорочно веря в каждое слово медицинских светил! Дома я с увлечением делилась с мамой своими впечатлениями. Она молча слушала, но однажды не выдержала и жёстко возразила: