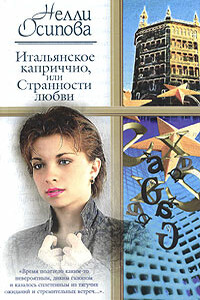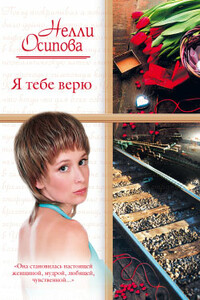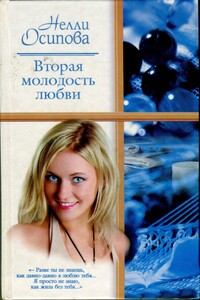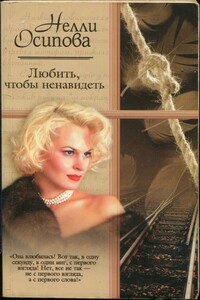Фантомные боли памяти (Тифлис-Тбилиси) - страница 25
Вслед за молочником приезжает арба с овощами, запряжённая буйволом. Это совсем не тот «синий буйвол», о котором писал Булат Окуджава. Настоящего синего буйвола я увидела много позже, в 1945 году, в Дашкесане, где начинались работы по добыче руды для будущего Руставского металлургического комбината. Я стояла на берегу небольшой обмелевшей горной речушки и наблюдала, как буйвол пытается перейти её, очень странно спотыкаясь. Потом буйволица — а это была именно буйволица — тяжело опустилась на каменистое дно и некоторое время лежала так на жарком солнце, омываемая водой. Речка, дойдя до буйволиной головы, раздваивалась, образуя два потока, которые обтекали животное с обеих сторон и, омыв его бока, вновь соединялись в одно течение. И вдруг произошло чудо: где-то в области хвоста буйволицы появился маленький, весь лоснящийся, синий с фиолетовым оттенком буйволёнок, а вслед за ним что-то бесформенное шлепнулось в воду. Потом буйволица тяжело поднялась и стала тыкать мордой в новорождённого, облизывать его, тормошить до тех пор, пока младенец не поднялся на свои шаткие, гнущиеся четыре ноги. Так впервые природа допустила меня до своей величайшей тайны, а буйволёнка я вспоминаю каждый раз, когда слышу слова Окуджавы.
Ну, а сейчас, на мостовой улицы Чахрухадзе, аробщик-азербайджанец выкрикивает зычным голосом: «Памидо-ор, ба-адриджян!» (баклажан). Арба скрипит, буйвол ведёт себя непристойно, отчего дворничиха-езидка[9] возмущённо ворчит, но тут же умолкает, получив от торговца в компенсацию целый ворох баклажанов. Женщины из соседних домов окружают арбу, торгуются, покупают и не замечают мальчишку, чей простуженный, гнусавый голосок вплетается в крик аробщика: «Подсижник, подсижник…» Он сжимает в покрасневшем кулачке первые подснежники, бог знает где и как добытые им ценой явной простуды.
Улица совсем ненадолго смолкает, чтобы вскоре взорваться оглушительным колокольным звоном. Медленно бредёт чахлая лошадёнка, тащит телегу с керосиновой бочкой. Рядом шагает керосинщик, как все его называют, беспрестанно оглушительно звонит в большой медный колокол и высоким голосом возглашает: «Нафти-керосин! Нафти-керосин!». Только на несколько минут он делает паузу, чтобы открыть кран в бочке, налить керосин в бидон и получить деньги. Если он даёт сдачу, то купюры долго пахнут керосином, распространяя запах по всей комнате.
В нашей школе, в маленькой каморке под лестницей, жил сторож, одинокий мужчина с рыжеватой бородкой и усами, невероятно похожий на Чапаева. У него был точно такой же колокол, как у керосинщика, которым он оповещал о начале и конце уроков. Настоящего имени его никто не знал — мы называли его Чапай. Он откликался, никогда не сердился и всегда был готов найти тряпку и мел для доски. После уроков он подметал полы, хотя работала уборщица, которая мыла классы, зал и коридоры.
Не миновали нас и бытовые услуги. Вот проходит по улице мужчина, держа на плече высокий плоский ящик со стёклами. У него своя партия в сложной партитуре многоголосья нашей улицы. Это конечно же стекольщик. Видимо, он хочет быть понятым жильцами любой национальности, поэтому кричит на удивительной смеси языков: «С-с-с-стёкла вставлять! Акошкис шушеби!» — склоняя по-грузински русское слово «окошко» и растягивая, сколько хватало дыхания, С, словно собирается свистеть. Говорят, мастером он был скверным, и потому его призывы чаще оставались безответными.
«Вечером началось повторение предыдущего.
— Ну что, передумал? — спросил Айвазов. — Может быть, достаточно? Подпишешь?
Я молчал.
„Бригада“ была вызвана, снова началась пытка…
Копецкий ввёл новую пытку. Карандаши… Между пальцами вкладывали гранёные карандаши, за одну руку брался Копецкий, за другую — Иван Айвазов, и по команде Копецкого „раз, два, взяли!“ сжимали… Сверхчеловеческое усилие требовалось для того, чтобы не кричать. Кусая губы, я терпел, и это больше всего злило палачей.
— Долго ты будешь мучить нас? — орал Копецкий.
Оказывается, это я их мучил.
— Я заставлю тебя валяться под ногами, — угрожает Копецкий.