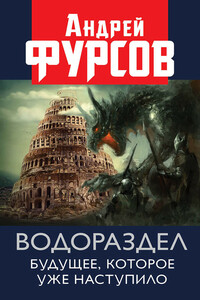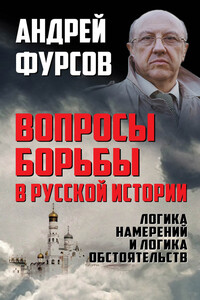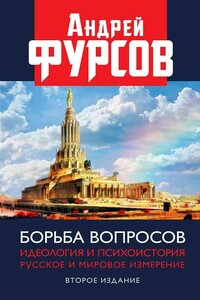Превентация, однако, была не единственной особенностью коллективов советского (властно-производственного) типа. Не меньшее значение играло то, что, поскольку отношения господства-подчинения и тем более эксплуатации нигде не были официально зафиксированы и определены, значительная часть индивидов в советском обществе ситуационно и, естественно, без институционально-правовой фиксации (т.е. «нелегально»), обретала возможность эксплуатации (как правило, коллективной) другой части индивидов. Речь, следовательно, идет о таком явлении коммунистического порядка и советской жизни, как соэксплуатация или инфраэксплуатация, которая, будучи ситуационной и неофициальной, тем не менее становилась способом не просто жизни и выживания, но нормального функционирования целых групп, коллективов, первичных производственно-властных организаций коммунистического строя.
Это явление можно назвать по-разному: вторичная эксплуатация, инфраэксплуатация, со- (или даже само-) эксплуатация. Суть – одна и та же: в системе коллективного отчуждения господствующими группами социальных и духовных факторов производства, где эти отношения отчуждения, или присвоения воли (т.е. отношения господства – подчинения), носят системообразующий характер и являются первичными по отношению к эксплуатации, предшествуют ей, обусловливают ее, последняя выступает как вторичное производственное отношение. В силу этой своей вторичности, своего несистемообразующего характера эксплуатация допускается и даже (до определенного уровня) поощряется системой как один из типов социальных отношений внутри подчиненных слоев населения. Здесь, в нижней половине социальной пирамиды, инфраэксплуатация становится постоянным фактором социальных отношений – так же, как в крепостнической России наряду с крепостнической эксплуатацией существовала и развивалась эксплуатация внутридеревенская, внутри общины – как коллективная, так и индивидуальная («мироедская»). Нередко складывалось так, особенно в позднекрепостническую эпоху, что вторичная эксплуатация, инфраэксплуатация оказывалась более тяжелыми и жестокими, чем первичная, чем «эксплуатация-экстра», т.е. со знаком качества – исторического, системообразующего. Часто выходило, что свой же брат и сосед крестьянин хуже для крестьянина, чем помещик. Глеб Успенский, Иван Бунин и особенно Николай Лесков прекрасно показали это (не случайно в советские времена власть так не любила произведения о деревне именно двух последних авторов, ломавших жесткий и прямолинейный классовый подход).
Поскольку (со)эксплуатация является вторичным, а не первичным и несистемообразующим комплексом отношений, она не отличается четкостью очертаний, часто носит довольно размытый характер, не исключает отношений взаимопомощи, квазидружбы (в которой, кстати, стиралась грань между производственными и внепроизводственными характеристиками – «дружба по-советски») и т.п. Эти последние, и н т и м и з и р у я вторичную эксплуатацию, одновременно скрывают, маскируют, смягчают и облегчают ее, делают более или менее приемлемой для индивидов, в значительной степени (по крайней мере, внешне) переводя из разряда производственных отношений в разряд личных. И чем более развита социальная группа, тем в большей степени. Отсюда то явление, которое кто-то метафорически метко назвал «тоталитарной задушевностью». В равной степени его можно было бы, особенно учитывая слабую формализацию социальных и профессиональных отношений в советском обществе, назвать или «душевной репрессивностью», или «душевным тоталитаризмом». Здесь очень хорошо в одном слове сочетаются «душа» и «душить». Вот только слово «тоталитаризм» не подходит для обозначения коммунистического порядка, но это уже другой вопрос.
Многолетняя практика контроля вышестоящих коллективов над нижестоящими, а в самих коллективах – контроль со стороны коллектива в целом над своими членами, комбинация первичной и вторичной форм эксплуатации, существование (суб)культуры «задушевной репрессивности» («репрессивной задушевности») – все это вело к интериоризации контроля. В значительной степени он превращался в самоконтроль, необходимый для реализации целей индивида как такового и особенно в качестве элемента коллектива как реального, значимого социального индивида. Это придавало большинству поступков внешне добровольный (по сути – «добровольно-принудительный») характер. Подавляющее большинство «все понимало» и действовало в соответствии с этим пониманием.