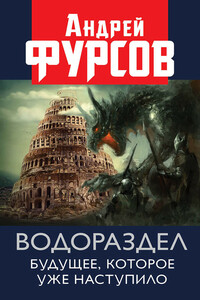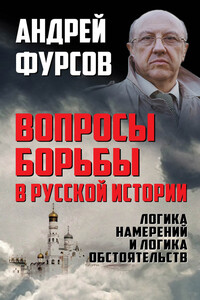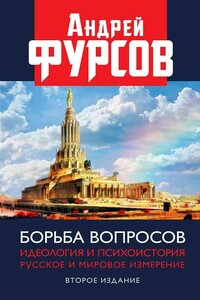средств защиты (что вовсе не всегда значит: реальных). Правда, это не только заслуга капитализма, но результат компромисса капитализма с Европейской цивилизацией (и – шире – Западной Системой), породившей его, со всем вещественным, субстанциональным, ценностным и организационным, что ею накоплено и должно учитываться капитализмом; это результат взаимной адаптации и исторической борьбы капитализма с европейским «докапиталистическим» наследием: «неадаптированный» полностью функциональный, т.е. «взбесившийся капитализм» – это (логически) коммунизм. Кроме того, сама капиталистическая система построена на конкуренции индивидов (и групп). Отсюда – иные формы эксплуатации (достаточно формализованные и главным образом индивидуальные и вертикальные, а не коллективные и горизонтальные) и иные стратегии сопротивления им. Хотя в подобной ситуации столь характерные для любой области творческой деятельности чувства, как зависть и амбиции, могли подвергаться большей или меньшей трансформации в функцию социального контроля (скорее в меньшей, поскольку этот контроль осуществлялся системой в целом и реализовывался как определенный образ жизни общества – западный, интегрально), он никогда не превращался ни в «идеологический контроль», ни в «репрессивную задушевность», ни тем более в производственное отношение.
Напротив, в советском научном коллективе (думаю, аналогичной была ситуация в кино, театре, музыке и т.д.) индивидуальная зависть или, скажем так, рессантимент становились одним из элементов социального контроля и, самое главное, перемещались из личностно-бытового измерения в социопроизводственное, усиливали его, придавали ему более отчетливую, часто идеологизированную форму: «Сальери» с партбилетом – это очень серьезно.
Стремясь сознательно и подсознательно, формально и неформально осуществлять контроль над своими членами, научный коллектив советского типа не только матepиaлизoвывaл логику и законы социального бытия коммунистического порядка, но и позволял многим реализовывать свои фобии и комплексы по отношению к более талантливым. Несколько упрощая и огрубляя ситуацию, можно оказать, что посредством советского научного коллектива был осуществлен исторический реванш научных и околонаучных бездарей предшествующих эпох над талантливыми коллегами. Благодаря ситуации, о которой идет речь, человеческая природа в сфере науки получила значительно большие, чем прежде, возможности и к тому же подкрепленные коллективом и всем строем жизни, представленным иерархией коллективов, для реализации таких фобий, комплексов и слабостей, оценка которых (зависть, подлость) практически во всех этических системах носит отрицательный характер.
Особо хочу подчеркнуть следующее.
Первое. Характеризуя социально-научный коллектив, я не даю ему оценки: плохой (или хороший). Я – не об этом, а о социальном типе коллектива, о принципах его конструкции в качестве элемента властно- производственной иерархии советского общества. Я также не обсуждаю вопрос, плохие или хорошие люди работали в научных коллективах, – разные. Меня интересуют социосистемные характеристики индивидов, законы их поведения (а не личные интенции последнего). Эти характеристики существенно модифицируют личность, ее поведение. Как заметил А.Белинков о ком-то из писателей (кажется, об Олеше), он был хороший писатель, хороший человек – в том смысле, что в хорошем обществе, в хороших обстоятельствах вел себя хорошо. Ну а в плохих, среди плохих людей вел себя как большинство, т.е. опять же хорошо с социосистемной точки зрения. Конечно же, не все вели или ведут себя подобным образом. Всегда есть некий процент людей, минимально зависимых от окружения и готовых оставаться собой в любых или почти любых обстоятельствах, отстаивать свою правоту, свое «я». (Это опять же не означает, что они – «хорошие»; хорошие – для кого? В каком плане? Мы, повторю, рассуждаем в социосистемном, социальном плане.) Но много ли их было, таких людей, готовых нарушать или, тем более, систематически нарушавших правила советского властно- производственного общежития? Много? То-то. Повторю, я не касаюсь личных качеств людей, работавших в советских коллективах, а пишу о социальном поведении индивидов как элементов определенной социальной ячейки, функционирующей по определенным – как ею, так главным образом и не ею – правилам.