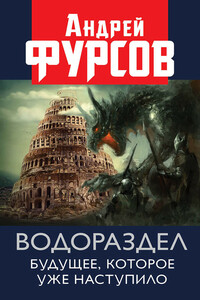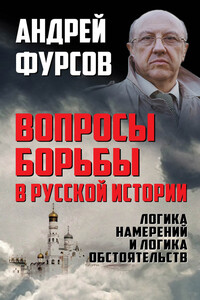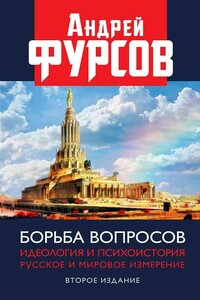Еще один «очарованный странник» - страница 14
Мне уже приходилось писать о том, что личность как явление (и личность как качество) есть преодоление социального индивида; личность предполагает выход за рамки социального индивида путем установления таких отношений с Абсолютом (будь то Бог или совесть), которые не опосредованы социальным коллективом, личность есть снятие противоречия между социальным индивидом и коллективом. Не случайно социальный индивид может быть представлен и одним человеком, и коллективом, а вот личность всегда индивидуальна. Личность разобрать на «части», по составляющим ее связям, нельзя, она есть целое; социального индивида – можно, что и делала советская система, да и не только она, но и другие. Например античная. Другой вопрос, какими возможностями, средствами и резервами сопротивления обладает индивид.
Далее. В разработках В.В.Крылова, с одной стороны, – объективированное существование комплекса общественных связей, с другой – их субъективное бытие; с одной стороны, – объективное существование общественных связей и контактов, их материальное бытие вне самих индивидов; с другой – субъективированная, интимно-внутренняя для каждого индивида форма бытия этих связей. При этом усвоенный и внутренне переработанный индивидом комплекс социальных отношений становится, наряду с природными потребностями и стремлениями, источником формирования внутренней воли. То есть получается, что разница между индивидом и обществом – это исключительно разница между субъективным и объективным. Но возникает вопрос: как, благодаря чему происходит интериоризация общественных связей; ведь личность так же объективна, как общество: общество и личность суть субъекты, качественно равнопорядковые, как минимум (не случайно, коллективом управлять легче, чем одним человеком)? На этот вопрос в работах В.Крылова ответа нет. Помимо прочего и потому, что в большей степени его интересовали макроструктуры и макропроцессы. Оговорюсь, однако, что методология и теория, разработанные В.В.Крыловым, значительно больше дают для анализа личности и культуры, чем многое из того, что было сделано теми, кто специально занимался этими проблемами.
Интересно, в работе «Общество и личность» В.В.Крылов пишет об угрозе, которую несет личности тот факт, что через 20-30 лет трудящийся будет вынужден менять за свою жизнь 6-8 профессий; это может привести к разрушению личности в результате частой смены ее структур и потери устойчивой определенности личности[14].
На самом деле та угроза, которую В.В.Крылов относил в будущее и усматривал в профессионально-экономической сфере, в советском обществе, по крайней мере в 30-х – конце 60-х годов, т.е. до начала разложения «реального социализма», присутствовала всегда. Только обусловлена она была не экономическими, а социальными причинами и факторами. Человека «растаскивали» между собой, как бы натягивая его на себя, различные организации; в 30-60-е годы в течение своей жизни советский человек должен был несколько раз, по крайней мере внешне, официально резко менять свое поведение, свое отношение к событиям и людям. Короче, группы и организации отнимали у человека качество, давя социального индивида; группы и организации были реальными, социально значимыми социальными индивидами, человек – в лучшем случае – вторичным социальным индивидом. В такой ситуации только личность оказывалась гарантией сохранения человеком первичной социальной индивидуальности. К сожалению, В.В.Крылов этих нюансов не зафиксировал. Не потому ли, что подобная фиксация предполагает как определенную позицию по отношению к обществу, в котором живешь, так и некую произвольную позицию по отношению к марксистской традиции, по крайней мере – внутренне?