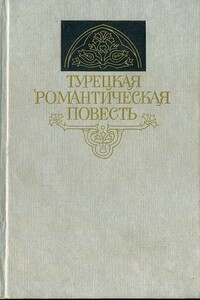— Как же джигиту честь свою защитить?
— Защищай честь, пока голова на плечах есть. Мертвым уже все едино, а живой о живом помышляет.
* * *
Воротился староста от Али-аги еле живой, голова обмотана. Увидел его Джано, бросился навстречу.
— Что с тобой? Кто тебя так отделал?
И я подскочил. Ссадили мы его с лошади, ухватили под руки с двух сторон, довели до мельницы, посадили на камень.
Джемо ему айрану вынесла. Отпил он глоток, заохал, застонал.
— На мне живого места нет. Дубьем колотили, все кости переломали…
Поняли мы из его рассказа, что Али-ага его принял ласково, а рабы его пронюхали, зачем он в их деревню наведался, устроили ему засаду у ручья да и избили дубинами до полусмерти. «Если, — говорят, — к нам под бок откочуете, пощады не ждите, всех до единого порешим. У нас самих травы, ячменя нехватка. А тут еще вы объедать нас вздумали! Нет уж, лучше вас прикончить, чем самим с голода подыхать». Ушли, а он остался у ручья в луже крови лежать. Тут бы ему и конец пришел, когда б сам Али-ага с дороги не приметил. Велел ага своим людям его к себе домой забрать, раны обмыть, перевязать. «Ты уж не взыщи, староста, — говорит, — что так обернулось. Мне и самому тошно. Видишь, времена не те. Сорик-оглу в силу вошел. Лапищи свои и к нашей деревне протягивает. Ты не думай, что я на попятную иду. Слово мое неизменно: боевым товарищам мой дом всегда открыт. Только Сорик-оглу вам и здесь покоя не даст. Взбаламутит моих крестьян, они вас всех перережут…»
Опять застонал староста, заохал:
— Не видать нам от них добра. Лучше здесь умереть в честном бою, чем там — позорной смертью.
Облетела всю деревню недобрая весть. Притих народ, пригорюнился. Ни смеха не слышно, ни разговору. И к работе ни у кого душа не лежит. Люди, как тени, по дворам без дела слоняются, по домам отсиживаются. Однако, как огонек под золой, теплилась еще в людях надежда, что староста им другого агу подберет. Я же все от командира письма ждал и поедом себя ел: уж не перепутал ли адрес случаем?
Как-то раз надумала Джемо на охоту меня снарядить, думы тяжкие мои разогнать, и сама со мной собралась.
Вот идем с ней по лесу, Джемо рта не закрывает, верещит без умолку. Что ни увидит: птицу, зверя, камень, источник, — на все у нее сказка готова, да так складно выходит, заслушаешься. Все больше про разлуку сказки сказывала: две птички не могут соединиться или два цветочка, а разлучают их или серый камень, или цепкий куст.
— Вот видишь, на ветке две птички сидят? Они всегда парой летают, не разлучаются. А были они когда-то шейховой дочкой и пастухом и любили друг друга крепко. Шейх был жадный, на деньги падкий. Попросил пастух за себя его дочку. Шейх и говорит: «Ты нищий раб. С какой стати мне за тебя дочку отдавать?» После подумал и притворился, что согласен. «Встань на вершину горы и птицей вниз слети. Коли слетишь — отдам за тебя дочь». А сам замыслил с пастухом поскорей разделаться. Пастух ему и отвечает: «Я-то слечу, но тебе меня больше не видать. И с дочкой своей простись». Не простой это был пастух, а всевышнего любимый раб. Молитву сотворил, встрепенулся, птицей обернулся и полетел вниз. Увидела девушка, что возлюбленный ее летит, и сама стала небо молить: «О всевышний! Заклинаю тебя могилой Хусейна[37], не разлучай нас с любимым, сделай и меня птицей». Только промолвила это, как сделалась птицей. И стали они летать вместе, а детки их и поныне парами летают.
Говорит она, а у меня перед глазами Сенем оживает. Открылась старая рана, заныло мое сердце. Джемо встрепенулась.
— Что с тобой, курбан? Отчего глаза затуманились?
— Да так, — говорю. — Вспомнил про тех, кто в пропасть кинулся, а птицей так и не стал.
— Да, таких у нас много. Вот и мама Кеви, тоже птицей хотела стать, да не стала. Больно тосковала она, когда Джано-бабо воевать уехал, а его все нет и нет. Так и погибла, не дождавшись его. Пойдем, я покажу тебе, где она погибла.
Взяла меня за руку, повела за собой. Поднялись мы в гору по течению ручья, миновали водопад. Смотрю: между крутых скал омут блестит.
— Вот сюда, в этот омут бросилась мама Кеви. На берегу ее шаровары нашли.