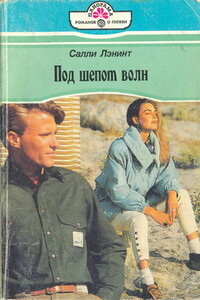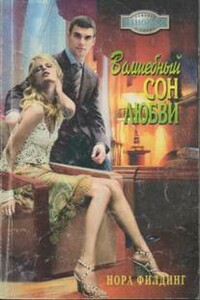В аэропорту все так же шумно и громко прощались-целовались, обменивались адресами электронными и скайпами, номерами телефонов.
Мы с ребятами-телевизионщиками улетали в Москву, наш рейс отправлялся раньше специального на Питер. И у меня и у них была ценная, хрупкая аппаратура, и пока мы оформляли этот багаж и документы на него, уже объявили посадку. Вся экспедиционная группа кинулась прощаться, обниматься-целоваться с нами, и я все никак не могла выбраться из этих объятий и найти Краснина, и все крутила головой и вытягивала шею, пытаясь увидеть его в этой толпе.
– А со мной обняться? – услышала я за спиной его голос.
– Обязательно! – развернулась я к нему.
Он шагнул вперед, ко мне, обнял и приподнял над полом.
– О-о-о! – дружно поддержал начальника восторженным восклицанием народ.
– Увидимся в понедельник, – прошептала я ему на ухо.
– Да, – грустно улыбнулся он и прилюдно чмокнул меня в щеку.
– О-о-о! – вторично поддержал народ начальника.
От такси, на котором приехала, я просто бежала уже домой, и нажимала звонок, не отпуская кнопки, и ворвалась в квартиру, и схватила Архипку в охапку вместе с его зайцем в одной ручонке и кусочком надкусанного яблочка в другой, и расцеловывала, и смеялась от радости. И плакала.
– Мама, не пачь! – утешал меня сынок, отчего, разумеется, я расплакалась и того пуще.
Весь оставшийся день я так и протаскала его на руках, не могла отпустить и все целовала, и гладила, и слушала его серьезные рассказы про то, как он тут жил без меня, и про любимую Нюшу, которая крутилась тут же возле нас и тоже что-то рассказывала.
Словом, мой приезд домой прошел шумно, суетливо и несколько бестолково. А вот девушки-то мои подготовились – стол накрыли, всяких вкусностей запасли, ждали. Даже мама пришла со своей половины и посидела с нами за праздничным столом. А я все рассказывала, не могла остановиться и отвечала на вопросы, прижимая к себе Архипчика.
Первая шумная волна встреч прошла, детей уложили спать, Лидочка и Галина Максимовна, моя домработница, ушли, мама тоже вернулась на свою половину, и за столом остались мы с Ольгой. Она рассказывала про свой ремонт, про мужа, про то, как они тут жили с детьми, а я слушала ее, смотрела и понимала, что ни ей и никому другому я не смогу поведать о Павле Краснине и о своих чувствах.
Глории нет, и не к кому припасть душой и поделиться всеми своими переживаниями, страхами и мучительными вопросами, и спросить совета, и поплакать на плече от грусти. Я одна. И теперь справляться со всем этим своим хрупким багажом приходится самой.
Ольга все говорила и говорила, посмеиваясь, рассказывая что-то веселое, не замечая моего невнимания и отсутствия в разговоре. А я вдруг так остро, так отчаянно, на грани переносимости почувствовала боль в груди от этого моего вакуумного одиночества на земле без Глории.
Извинившись невразумительно, я торопливо прошла в душевую к умывальнику, пустила самый большой напор холодной воды и засунула лицо под струю.
Не плакать!! Я справлюсь! Ничего! Ничего.
Делом заняться, и полегчает. Вот перемещением-размещением и займусь!
Наша квартира – это особый случай, впрочем, как вся наша жизнь и семья. Когда дедушка Платон получал эту квартиру как заслуженный деятель страны, то выдавали ее с учетом того, что у него большая семья: он с женой, двое их сыновей – мой папа и его старший брат, родители жены, то есть мои прадедушка и прабабушка, и родная сестра бабушки. Понятное дело, что в те времена еще и большие семьи селили в коммуналках и бараках и привет! Но заслуженному Платону Мироновичу выделили шестикомнатную квартиру в большом старинном доме с высоченными потолками и внушительным метражом.
Но через пять лет умерли один за другим бабушкины родители, а ее сестра вышла замуж и уехала с мужем жить во Владивосток. Потом у них в семье случилась трагедия, от тяжелой и непонятной болезни умер старший брат моего папы. А еще через пять лет ушла из жизни и бабушка. И остались в этой прекрасной огромной квартире дед Платон и папа. И так они прожили замечательно и мирно много лет, пока папа не женился и не привел в дом молодую жену.