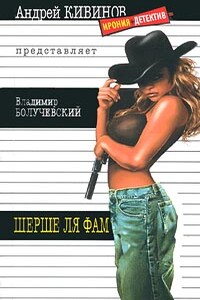– Да что планы. Поехали на Васильевский. Лишенца этого в клинику сдадим.
– Почему лишенца? – обиделся Лазарский.
– Ты паспорт наш сдал, когда уезжал?
– Сдал.
– Значит, лишен гражданства. Лишенец и есть.
– Логично,– согласился Михаил, откладывая в сторону пустую сигаретную пачку. – Дай-ка сигареточку, у тебя штанишки в клеточку.
– Держи, – Петр протянул ему открытую пачку. – А потом мне обратно сюда вернуться надо. Клиентка эта здесь рядом живет. Ну?
– Поехали. – Гурский поднялся из-за стола.
Все вместе они остановились у выхода из зала, чтобы расплатиться. Молоденькая официантка открыла свой блокнотик:
– Значит, так: салатики – два, кофе один, круассанчик, чанахи и бутылка водки. Это у нас… Да! – Она взглянула на Гурского. – А что же мне с вашими яйцами делать?
Он на секунду зажмурился, стиснул зубы, а потом посмотрел ей прямо в глаза и вкрадчиво спросил:
– Есть конкретные предложения?
Волков вынес из ресторана согнувшегося пополам Лазарского, загрузил его в машину и сел за руль. Гурский уселся рядом.
– О-ох! – выдохнул наконец Михаил. – Са… Саня… – задыхался он от смеха. – Ты бы видел, что с ней было…
– Да, Гурский, – сказал Петр, заводя автомобиль, – я же говорил, что ты чудовище. Ну, оговорилась девочка. Да и не оговорилась вовсе.
– Она про яйца спросила, я ей про яйца и ответил.
– С живыми людьми дело имеешь. И не все такие умные, но все равно живые. Она же ребенок еще.
– Вот и капитан мне этот про скрупулезность внушал, и чтобы не умничал.
– Попугай-то?
– В смысле?
– «Попугай» его зовут. Он слово какое-нибудь услышит, подцепит и мусолит потом неделю. Где надо и не надо. Я ему сказал сегодня, не надо, мол, умничать, бери бабки и отдавай человека. Зачем тебе компьютер, моего слова мало?
– Он, Петя, теперь «филигранностью» всех доставать будет. Как я понимаю это дело.
– Почему?
– Да так мне почему-то кажется.
Волковский джип вывернул на Саблинскую, сделал правый поворот на Пушкарскую, потом левый на Ленина (которая теперь Широкая) и выехал на Большой проспект Петроградской стороны, направляясь на Васильевский остров.
Мишка Лазарский отмечал про себя все эти названия знакомых с детства улиц, смотрел на старые дома и очень не хотел в клинику.
– Пацанчики, родненькие, – приговаривал он, – какие же вы хорошие. Не сдавайте меня в больничку, а? Ну давайте еще хоть один денек набулдыкаемся сегодня! Ну ведь как здорово-то, а? Что ж вы как гады последние? Меня на койку, а сами пойдете, жить будете в полной свободе от зависимости. А я?
– Миша, – на секунду обернулся Волков, не отрывая взгляда от скользкой дороги, – вспомни о маме. Мама ждет тебя трезвым. Сынок твой…
– …тянет к тебе за океаном розовые ручки, – подхватил Александр, – лепечет: «Дэди, нье нада дрынк йетот терибл уотка в йетот харибл Раша! Гоу ту ми трезвым! Мне нье нужет ё мани! Я вонт, чтобы от тебя не воняло перегаром! Ай лав ю!»
– Гурский, – сказал Волков, – и все-таки ты чудовище.
– Ребята,– Лазарский расплывался в улыбке, – как я вас люблю.
– Любишь – женись, – пожал плечами Петр.
– Устал – отдохни, – кивнул Гурский.
– Ага… – Мишка поправил шарф. – Умный – покажи свои бабки.
– Это грубо, – сказал Волков.
– И все равно я вас люблю.
– Любишь – женись…
«Понаезжают…» – пробурчал Волков, разворачивая машину возле частной лечебницы на Косой линии Васильевского острова.
Он включил печку, потому что стекла с правой стороны, где сидел Адашев– Гурский, сразу запотели.
– Что?
– Понаезжают, говорю, а потом… Ну не получается из русского человека счастливого американца. Проверено. Ихнее счастье под другие мозги приспособлено.
– Так Мишка же еврей.
– Наш, – назидательно поднял палец Петр. – Русский еврей. Чего, спрашивается, поперся?
– Ну… не столько он, сколько родители.
– Да сам, сам рванул. За бабками, в конечном итоге. А ведь сказано: «Что толку тебе в том, если кучу баксов срубишь, а душе своей повредишь?» И вот – пожалте бриться.
– Так ведь там же сказано, чтобы вкалывать в поте лица своего. А у нас в те времена, потей хоть… перепотей весь, в результате только геморрой.
– Ты не передергивай. Он думал, там все-таки полегче будет. А потеть и у нас можно. Хоть теперь, хоть тогда. У нас даже лучше – прохладнее.