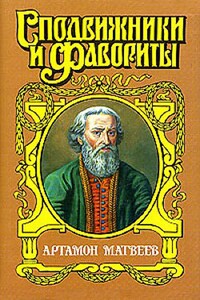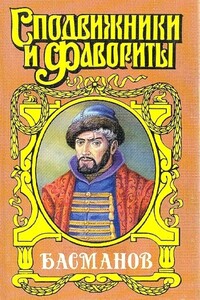Князь Иван хотел было что-то сказать, но умолк, увидев входящего в кухню Андрея Ивановича Остермана, который прямо от порога бросился к государю:
— Вот вы где, ваше величество, а там весь двор переполошился, вас ищут. Посол испанский какой день добивается ваше величество увидеть, говорит, дело у него к вашему величеству большой государственной важности.
— Хорошо, Андрей Иванович, скажите, что я сейчас буду.
Повернувшись к князю Ивану, Пётр Алексеевич продолжал разговор, прерванный появлением Остермана:
— Ты, Ванюша, сегодня вечером непременно приходи ко мне, расскажешь, как ты в Польше с жидами дружил.
Князь Иван согласно кивнул:
— Непременно буду у вас, ваше величество.
— Смотри же, ждать тебя стану, — то ли попросил, то ли приказал государь.
Лёжа на боку и опершись на согнутую в локте руку, государь Пётр Алексеевич внимательно слушал сидящего у его постели князя Ивана. Три свечи во многорожковом подсвечнике слабо освещали покои государя. Его юное, очень загорелое лицо было теперь совсем тёмным. Большие светлые глаза тоже казались тёмными, он, не мигая, смотрел на князя, и на лице его блуждала странная улыбка.
— Нет-нет, Иван, — упрямо мотнув головой, повторил Пётр Алексеевич, — мы сейчас станем с тобой говорить про Христа и про то, как его жиды распяли. Ведь это так?
— Так, — утвердительно кивнул князь.
— Вот видишь, они Христа распяли, предали, а ты в Польше с ними дружбу водил. Ведь водил?
— Водил, — коротко подтвердил князь.
— Они же прокляты Богом за своё злодеяние, и с ними лучше не знаться вовсе.
Сквозь упрямое выражение на лице Петра Алексеевича проглядывало едва заметное сомнение.
— Всё верно. Жиды Христа распяли...
— Видишь, видишь! — горячо перебил друга государь, совсем приподнявшись с постели. — И за это они прокляты.
— Так-то оно так, только для них, для жидов, Христос был бунтовщик, — тихо, но убеждённо проговорил князь Иван.
— Как это — бунтовщик?! — удивлённо воскликнул государь, садясь на постели и опираясь на спинку кровати.
— Да, бунтовщик. Ведь сам-то он тоже был евреем, а восстал против законов, что были тогда в том государстве.
— Я это знаю, знаю, — быстро проговорил государь, — мне рассказывал священник. Да ведь законы тогда были суровы, тяжело было людям их сносить, — настаивал он на своём.
— Верно, тяжело было их сносить, — согласился князь Иван, — но на то они и законы, чтобы подданные их исполняли, а что ж это тогда будет, когда законы никто не станет чтить?
— Что будет? — эхом отозвался Пётр Алексеевич.
— Да вот взять хотя бы вашего батюшку, царевича Алексея Петровича.
— Моего батюшку? — недоумённо уставился на князя государь. — А почему ты про него сейчас заговорил?
— Да потому что он против деда твоего, государя Петра Алексеевича, выходит, тоже был бунтовщик.
— Мой батюшка — бунтовщик?
— Ну да, бунтовщик, — подтвердил князь Иван и, глядя на неузнаваемо изменившееся лицо государя, добавил: — За то и жизни его лишил дедушка ваш.
— Как жизни лишил?! — воскликнул Пётр Алексеевич, соскакивая с постели и бегая по комнате.
Князь Иван молчал, ожидая, когда государь немного успокоится. Наконец, остановившись напротив князя и глядя ему прямо в глаза, Пётр Алексеевич спросил:
— А ты, Ванюша, откуда о том знаешь?
— О чём?
— Ну о том, что батюшку моего жизни лишили. Мне говорили, что он хворал долго, оттого и помер.
— Конечно, захвораешь, ежели тебя в крепости истязать станут.
— Что ты такое говоришь? Истязать в крепости?
— Да, истязать, — с каким-то мстительным упрямством повторил князь Иван.
— Да ты-то откуда знаешь? Сам говорил, что тебя в ту пору здесь не было, ты тогда мал был и жил в Польше.
— Верно, жил тогда в Польше, но не так уж я был мал, чтобы не понять всего.
— Чего всего? — допытывался государь.
И тогда князь Иван рассказал Петру Алексеевичу всё, что когда-то слышал в доме деда в Варшаве, когда приезжал отец, князь Алексей Григорьевич, и рассказывал страшные подробности о смерти царевича Алексея — батюшки государя.
Он и сейчас помнил тот страх от услышанного, охвативший его. То же не позабытое волнение овладело им и теперь, каким-то неясным образом оно передалось и Петру Алексеевичу. Тот, перестав кружить по комнате, вновь забрался на постель, лёг, натянув одеяло до самой головы, и оттуда, из-под одеяла, смотрели на князя Ивана его огромные глаза, полные страха. Некоторое время в комнате царила полная тишина, нарушаемая лишь слабым потрескиванием горящих свечей.