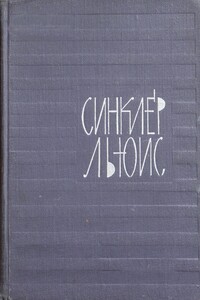Правда, жил дед Сомовой в Москве, вернее, на даче в ближнем Подмосковье, и видела она его пару раз в жизни, в один из которых была со мной, но тем проще мне будет с ним общаться. Хоть чем-то эта… несостоявшаяся любовь окажется мне полезна.
Я рассказал о своей идее Захару и получил самое горячее одобрение! Он даже исполнил туш на надутых щеках.
В солнечный майский полдень мы вышли из электрички на платформе Жаворонки и пешком отправились в сторону Дачного — я «помнил» дорогу по так никогда и не состоявшемуся визиту к деду жены в невозможном будущем.
Валентин Аркадьевич Изотов копался в огороде: в выгоревшем капелюхе, живо напомнившем мне «Свадьбу в Малиновке», в кирзовых сапогах на босу ногу, в меховой жилетке поверх тельняшки. Я представил себе его в таком виде посреди Вены, в респектабельном советском банке и расхохотался, потому что более несвязные вещи — австрийский банк и соломенная шляпа с вислыми краями в сочетании с тельняшкой — и вообразить себе невозможно.
Он обернулся на смех и тоже улыбнулся сквозь вислые усы — как будто встретил старого знакомого — радушно и открыто:
— Что, хлопцы, потеряли чего?
— Здравствуйте, Валентин Аркадьевич! А мы к вам!
— Вот как! Ну заходите, пионеры, ежели ко мне, — велел нам хозяин, отставляя грабли к стене сарая. — Собаки у меня нет, так что не бойтесь, проходите!
Пока мы входили во двор, он помыл руки под дюралевым умывальником, приложился к ковшу, стоявшему тут же, на табурете возле бидона, в каких обычно возят молоко. В руке его появилась пачка «Казбека», из которой он извлек одну папиросу, вытряхнул из мундштука крошки табака, постучав им о ноготь большого пальца, и спросил:
— Чем обязан интересу столь юных товарищей к моей скромной садово-огородной персоне?
Он смотрел прямо и внимательно и; я почувствовал, что сказать неправду под прицелом его светло-голубых глаз под кустистыми бровями не вышло бы и у Штирлица.
— Мы к вам, Валентин Аркадьевич, по очень важному делу! — влез Захар. — Это касательно экономики и политики…
Я труднее схожусь с новыми людьми, зато мой друг — прямо-таки иллюстрация коммуникабельности и непосредственности! Мне иногда казалось, что если бы вдруг его пришли арестовывать суровые милиционеры, он бы сумел с ними подружиться и, засаживая его в тюрьму, они бы непременно рыдали, разрываемые долгом и личной симпатией к Майцеву.
— Вы не из «Плешки» часом? — Дед перебил Захара и подозрительно прищурил правый глаз.
Я слышал о какой-то старой обиде, терзавшей старика всю жизнь — то ли диссертацию его прокатили, то ли в должности отказали — я не знаю, но людей из Стремянного переулка он не жаловал. Поэтому поспешил вмешаться:
— Нет-нет, Валентин Аркадьевич, мы по своей, частной инициативе.
— Чудны дела твои, Господи, — сказал он в ответ, но креститься, как положено было верующему, не стал. — И чем же обязан?
— Если позволите, Валентин Аркадьевич, то мы бы рассказали обо всем в доме.
Дом у него был хороший: два этажа, свежеокрашенные голубой краской стены, большие окна, пристроенная оранжерея, мезонин с балкончиком. Где-то там внутри — я знал уже — нашлось место и обшарпанному роялю, которым старик очень дорожил — чуть ли не с войны его привез. Трофей.
— Ишь ты, в доме! А мне это зачем?
— Вам будет очень интересно, — посулил я. — И, поверьте, от этого разговора очень многое зависит.
— Вот как? Давненько от меня ничего не зависело. Ну что ж, молодые люди, проходите, коли так.
Он показал нам своей жесткой, мозолистой ладонью на входную дверь.
Чай из электрического самовара был непривычно мягким.
Захар солнечно улыбался, прихлебывая из блюдца, а я рассказывал в третий раз свою необычную историю. Мой чай остыл, но глядя на Валентина Аркадьевича, лицо которого все больше приближалось к идеальному воплощению образа «Фома Неверующий», пить его мне расхотелось. Поначалу он еще что-то слушал, потом стал размешивать сахар, демонстративно громко лязгая ложкой по стенке стакана, ронять бублики под стол и долго их разыскивать, раскачиваться на стуле и смотреть в потолок, показывая, что с нами он просто теряет свое драгоценное садово-огородное время.