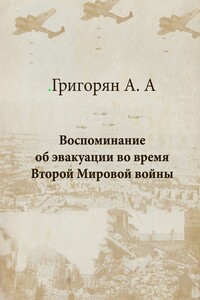Уголовницы, работавшие подругую сторону тропы, собрались толпой.
— Дежурненький, веди нас домой! — орали они.
Стали подтягиваться к выходу из леса и женщины нашего этапа. Конвоир стоял на тропе с винтовкой наперевес. Уголовные затянули песню. Будь у нас карандаш и бумага… их песни надо было записать. Протяжно и тоскливо женщины пели о своей судьбе — судьбе проститутки, воровки, молодой девчонки, узнавшей в шестнадцать лет порок и тюрьму. Каждое слово было полно тоски и мучительной правды.
На небе стал виден серп луны. Так же внезапно песня кончилась, как началась.
— Хватит! — крикнула одна из уголовниц. — Пошли в лагерь!
И она двинулась вперед, прямо на конвоира. Тот поднял ружье и выстрелил — девушка рухнула в снег. Сбившись в кучу, мы стояли у тропы. А конвоир, повесив ружье на плечо, шагнул к лежавшей, пнул ее ногой.
— Эй ты, не придуривайся, вставай, — сказал он равнодушным голосом.
И она встала. Усмехаясь, стряхнула снег.
— По четверкам разберись! — кричал конвоир.
Утопая в снегу, мы построились. Пересчитав четверки, он повел нас в зону.
В столовой, как не выполнившим норму, нам выдали штрафной паек: миску супа и пайку хлеба в триста граммов на завтрашний день.
В бараке, голодные, усталые, забрались мы на нары. Говорить было не о чем.
И потекли дни… После подъема и миски тюремной баланды мы шли в лес. Убедившись, что на крупном лесе норму выполнить легче, мы стали валить большие деревья. Выработка не доходила до нормы, но стала повышаться. Это не понравилось бытовичкам. Они не хотели работать, не хотели, чтобы и 58-я давала норму. В лесу, собравшись толпой, они двинулись на нас.
— Эй вы, враги народа, не трогайте крупный лес! Айда рубить мелочь!
Бытовички рассчитывали, что 58-я сдрейфит. Они просчитались.
Измученные, издерганные женщины не отступили. Они тоже с топорами в руках двинулись навстречу уголовницам. Впереди других шла Женя Штерн, маленькая, худенькая, под мальчика остриженная женщина. Уголовницы отступили.
— Нуй жрите его, хоть весь. Все равно передохнете.
На другой день Женя захватила с собой в лес простыню. Она разорвала ее на полосы, сделала петлю, закинула ее на сук толстого дерева у штабеля, залезла на штабель, сунула голову в петлю и прыгнула вниз. Бездыханной вынули ее из петли, отвезли в больницу. Жизнь ей спасли.
ВСТРЕЧА С НАДЕЙ
Вернувшись из больницы в лагпункт, Надя прислала мне с трактористом записочку: «Притворись больной, от вас водят больных на прием в Эльген». На другой день я срочно «заболела». Отказавшись идти в лес на работу, я бегала по бараку, держась за щеку. Я симулировала, как могла. Меня отпустили в Эльген к зубному врачу одну.
На Колыме, в глубинных командировках, строгое конвоирование заключенных не соблюдалось. Бежать с Колымы было почти невозможно. Мы слышали о побегах, но беглецы или погибали от холода и голода, или возвращались обратно в лагерь. Позднее я сама видела безнадежно скитавшихся беглых.
Семь километров я шла по безлюдной и снежной дороге в Эльген. Сбиться с пути невозможно. Дорога, проложенная трактором, одна. По обе ее стороны целинная гладь снега. Ни тропы человеческой, ни звериного следа.
Хорошо было идти одной, чуть жутковато в неведомом краю, но после стольких лет пребывания на людях с неизбежными конвоирами за спиной… Торопило только желание поскорее встретиться с Надей. Я боялась — что-нибудь помешает.
Но все прошло удачно. Меня принял зубной врач. Потом меня пропустили в зону. Я разыскала барак Нади. В бараке никого не было, кроме приветливой старушки дневальной, которая сказала мне, что Надя ушла в каптерку. Я пошла туда. «Как же, — думала я, — узнать Надю? Как различить среди других?»
Открыв дверь каптерки, я увидела перед прилавком немолодую полную женщину. Лицо ее было одутловатым, до прозрачности бледным.
— Олицкая здесь? — спросила я.
— Катя! — И Надя уже около меня. Она сразу узнала меня по сходству с братом.
В бараке мы залезли на верхние нары. Мы смотрели друг на друга, говорили, умолкали и снова говорили…
Надя попала на Колыму раньше меня, в страшные времена гаранин-щины. Она в числе других женщин, осужденных по 58-й статье, отсиживала в карцерах 1 мая, октябрьские дни. При ней из бараков уводили людей на расстрел по расчету при поверке: «Каждый десятый выходи в сторону!» Гаранинщина — это время, когда люди сотнями умирали от эпидемий, замерзали в палатках и бараках, когда по дорогам двигались подводы с мертвыми, когда голые трупы с подвод сваливали в облюбованный тюремщиками овражек. Когда он наполнялся доверху, пригоняли заключенных притрусить его сверху землей.