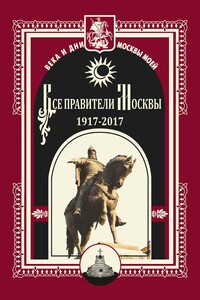Они согрелись, они сыты. Что-то из прошлой жизни воскресает в них. Они даже хотят покрасоваться перед нами. Своими осипшими голосами они начинают вдруг читать стихи — Бальмонта, Брюсова, Блока.
Я вглядываюсь в лица моих подруг по работе. Мы штампуем питательные горшочки для рассады капусты. Лицо одной из них страшно меняется, углы губ опускаются, губы начинают дрожать.
— Верочка, зачем так? — говорю я.
— Может быть, и мой отец…
Вера отбрасывает в сторону доски, замес и выбегает из теплицы. Не надо за ней идти. Скоро она вернется и станет к станку.
…1947 год. Я только что освободилась из лагеря, я живу у Нади на прииске «Утиный». Прииск расположен в долине узкой речки Утиной, протекающей меж высоких гор. Правый берег реки — золотоносный. Когда-то здесь был прииск заключенных. Теперь его уже нет. Установлена золотопромывочная фабрика. Работают вольные — бывшие зэки. Утиная перехвачена плотиной. По склонам гор высечены дороги, по ним снуют грузовики, они подвозят породу. Издали, снизу, они кажутся маленькими спичечными коробочками. Вдалеке слышны взрывы, видны столбы взлетевшей при взрыве породы. Освободившимся зэкам выезд с Колымы не разрешен, они стали вольными рабочими Дальстроя.
Я стою у домика конбазы. Рядом со мной — завхоз, молодой парень, тоже бывший заключенный, кажется, вор. Мы смотрим, как с горы спускается маленькая, согнувшаяся в три погибели человеческая фигурка. Кто-то тащит салазки, нагруженные дровами.
— Тяжело здесь с дровами, — говорю я, — с какой кручи приходится спускаться.
— Да, — соглашается завхоз, — там, у забоя Марии Ивановны, положе, но там никто не сойдет.
Я спрашиваю, что это за Мария Ивановна, я ожидаю рассказа о героическом подвиге — и ошибаюсь.
— Вы не слыхали? Это в пору Гаранина. Была здесь врачиха Мария Ивановна. Покойники-то в ее ведении находились. Без справки не хоронили… Сначала их возили вон в тот овражек, — он махнул рукой, указывая куда-то в сторону. — Как засыпали до краев, сыпать стало некуда. Тогда стали землю взрывать. И окрестили это место — кладбищем не назовешь ведь? — ну, и назвали: забой Марии Ивановны.
Группа ссыльных на Колыме. Е. Л. Олицкая — в центре. 23 октября 1953 года
Зачем я пишу эти строки? Выжившие — реабилитированы. Умершие — реабилитированы посмертно. Только списки невинно загубленных людей не опубликованы[9]. Только о последних годах и днях их жизни не знает никто. Тела их свалены в овражек…
«Прогресс человечества строится на костях и крови», — говорят одни. «Лес рубят — щепки летят», — говорят другие. «Революция не делается в белых перчатках», — говорят третьи… А что говорит народ? Простые люди? Народ безмолвствует.
Зачем я пишу? Я не могу не писать! Может быть, это память о них, хороших и плохих — безразлично.
Елена Львовна Владимирова во время учебы в Институте благородных девиц. Петроград. 1910-е годы
Елена Львовна Владимирова родилась в Петербурге в семье потомственных моряков.
Окончила Институт благородных девиц.
С 1919 года в Красной Армии, участвовала в боях с басмачами.
После окончания Ленинградского университета сотрудничала в газетах и журналах.
Арестована в 1937 году. Срок отбывала на Колыме.
В 1944 году за участие в антисталинской организации заключенных и «писание стихов» приговорена к расстрелу, замененному каторгой. Там сочинила поэму «Колыма» (четыре тысячи строк), позднее записанную на папиросной бумаге и вынесенную из зоны друзьями[10].
МЫ ШЛИ ЭТАПОМ…
Мы шли этапом. И не раз, колонне крикнув: «Стой!», садиться наземь, в снег и грязь приказывал конвой.
И, равнодушны и немы, как бессловесный скот, на корточках сидели мы до выкрика: «Вперед!» Что пересылок нам пройти пришлось за этот срок!
А люди новые в пути вливались в наш поток.
И раз случился среди нас, пригнувшихся опять, один, кто выслушал приказ и продолжал стоять… Минуя нижние ряды, конвойный взял прицел. «Садись! — он крикнул. — Слышишь, ты!
Садись!» Но тот не сел.
Так было тихо, что слыхать могли мы сердца ход.
И вдруг конвойный крикнул: «Встать! Колонна, марш вперед».
И мы опять месили грязь, не ведая куда, кто с облегчением смеясь, кто бледный от стыда.