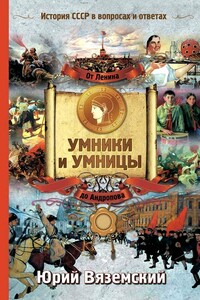«Кто тебе разрешил называть меня «филидом»?
«Так гельветы тебя называют» – ответил я.
«Гельветам можно. Тебе нельзя. Запрещаю».
«А как мне к тебе обращаться? – через некоторое время спросил я. – Гвидгеном можно?»
Попутчик мой остановился и возмущенно воскликнул:
«Еще чего! Какой я тебе гвидген?!»
И продолжил путь. А потом снова остановился и сказал:
«Я знаю, где и когда ловить рыбу. Я лучший рыбак на озере. Я – единственный настоящий рыбак. Зови меня Рыбаком. Разрешаю».
Мы подошли к деревенскому причалу, и тут я попросил:
«Рыбак, не называй меня больше «заикой». Я от этого сильнее заикаюсь… Меня зовут Луций».
Гельвет внимательно на меня посмотрел, потом улыбнулся и осторожно погладил по голове.
«Хорошо, – сказал он. – Я буду называть тебя Заика Луций. Пока не вылечу».
И оттолкнув меня от себя, пошел к своему жилищу.
«Представление Леману» на этом закончилось.
(6) На следующий день, как ты догадываешься, дул «не тот ветер». Через день «не было знака». Через два дня что? – Правильно. Не было самого Рыбака.
(Нет, правда, никого тебе это не напоминает?)
Признаюсь: уже после представления Леману я перестал рассчитывать на то, что Рыбак меня вылечит от заикания. Но сам Рыбак, его манеры, его приемы, его галльские боги были для меня весьма любопытны. Досуга же у меня было хоть отбавляй: в школу я не ходил, друзей не имел, книги, которые мне удалось достать, я прочитал в первые два месяца жизни в Новиодуне…
XIII. Третье представление произошло дней через десять после второго.
Когда я утром пришел к Рыбаку, он сказал:
«Сегодня пойдем снимать порчу к Гельвии. Но к ней надо идти под вечер. Приходи за два часа до заката».
За три часа до заката я вышел из дома, чтобы загодя прийти на свидание. Но, пройдя две или три стадии в сторону деревни, услышал позади себя сердитый голос:
«Куда идешь, Луций Заика?»
Я обернулся и увидел перед собой Рыбака, который, судя по всему, поджидал меня на тропинке.
«На встречу с тобой», – ответил я.
«В другую сторону надо идти! – рявкнул Рыбак. – В это время суток Тутела ждет нас на западе. Неужели не ясно?»
Не задавая вопросов, я пошел за гельветом.
Мы пошли не на запад, а на юг. По берегу озера прошли под Новиодуном и, выйдя на дорогу, направились в сторону Генавы.
Рыбак вдруг принялся читать мне целую лекцию о том, как у кельтов производятся заклятия и насылаются порчи. Речь его была неясной, так как за незнанием латинских слов он часто вставлял галльские словечки, а, вставив два или три, часто с латыни перескакивал на свой непонятный язык и на нем продолжал свои ворчливые объяснения, спохватываясь потом и снова переходя на латынь.
Я понял лишь, что порчу наводят какие-то «заклинатели» и «певцы», что главным инструментом порчи служат «три леденящие песни», что порча чаще всего «возводится на лицо» и что, если одновременно нанести «порчу позора», «порчу стыда» и еще какую-то порчу, то человек умрет либо немедленно, либо через девять дней.
Сперва я с усердием пытался понять и запомнить его слова. Затем стал слушать, что называется вполуха, устав от варварской речи и невольно залюбовавшись картиной, которая открылась моему взору.
Представь себе: солнце уже почти скрылось за западными горами, но верхние его лучи словно ослепили озеро, уперлись своими красными пальцами в далекие снежные ледники на северо-востоке, сделав их как бы сахарными и розовыми… Нет, Луций, не берусь описывать эту картину. И прежде всего потому, что она была почти нереальной, такой, какой не бывает и, наверное, не может быть в природе. Над противоположным берегом, над неестественно зелеными холмами утвердилась яркая радуга. Прямо передо мной, в пучке багрового света возникло вдруг несколько хороводов больших и словно прозрачных бабочек. А из зарослей иссиня-черных деревьев полилось пение незнакомых мне птиц.
Я остановился. И тотчас Рыбак спросил меня:
«Что чувствуешь, Луций?».
Удивленное восхищение, поразительную легкость во всем теле и какую-то необъяснимую радость – вот что я действительно чувствовал в этот короткий момент. Но Рыбаку почему-то ответил:
«Радуга. Бабочки. Птицы. Они свободны. А я словно придавлен к земле. Рукой и ногой трудно пошевелить».