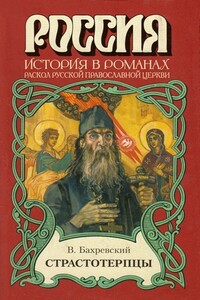Паны надменными улыбками одобряли королевскую твёрдость. Наглостью показалась просьба Нащокина — поговорить наедине. Возмутился Замойский, привыкший опекать Батория, хотя бы как переводчик с латинского.
Но Нащокин именно по-латыни обратился к королю напоследок, приятно изумив его. Ледяное раздражение сменилось любопытством. Стефан поднялся, секретарь бесшумно распахнул двери в кабинет.
Пробыли там недолго. Когда вернулись, у Григория Афанасьевича по истомлённому, запавшему лицу разливался покой. Добился большего, чем мечтал: пятинедельной отсрочки военных действий. Только больших послов король станет ждать в походном лагере — видимо, в Чашниках, откуда две дороги — на Смоленск и Великие Луки.
Вышла одна неловкость. Приняв литовского медку, Нащокин приказал Неупокою:
— Чтобы Гришка Осцик не появлялся тут! Коли уедем подобру, свечку Владычице поставлю.
— Король пытал про него?
— Ему не известно! Я только что на Писании не клялся... Спутал ты меня с дурнем.
Григорий Афанасьевич готов был упрекать одного Неупокоя за связь с «кролобойцем». Тому было не до обид. Сообщение Нащокина лишь подтвердило предчувствие беды, грозившей не переговорам, а Неупокою. Всё чаще вспоминался Антоний Смит. Преследовало зудящее ощущение чьего-то прилипчивого взгляда, где бы ни оказался: на безлюдной, в дубах и клёнах, ползущей в гору дороге к замку Гедимина, в костёле Анны или в шинке. За ним следили то осторожно, то намеренно нагло. Не он играл, как прежде, а им играли. Он только догадывался кто...
У Монастырёва худшее было позади. Ублажённый причудливыми ласками Мирры, под непрерывным пивным хмельком, он ждал, когда Нащокин выкупит его. Мечтал о службе в гулевом отряде, вроде княж Трубецкого в Лифляндии. Тогда гульнули славно. Война с сильнейшим противником не пугала его, в его отношении к ней появилось что-то мальчишеское, словно он не стальной, а деревянной саблей собрался махать: «Ещё я с Полубенским не посчитался... Прикажет государь, по самой Литве проскачем, як Кмита по Смоленщине!» Пока тешился другим гулеваньем, без угрызений и оглядки. Однажды ошарашил Неупокоя:
— Едем в Ошмяны к тестю! На рыбу по-диовски.
— Ты впрямь женился на жидовке?
Михайло хохотал:
— Едем, Мирка и тебе малжонку сыщет.
У Оси Нехамкина нашли они не сладких малжонок, а несчастье.
Пусто и как-то мглисто было в тот пасмурный вечер в шинке на южной окраине Ошмян. По зальцу мыкалось несколько обалделых пьяниц, из кухни несло не фаршированной щукой, а горелым салом, а в задней комнатёнке Ося честил на идиш могучего Наума, в котором Неупокой узнал еврея, приезжавшего к Осцику. Отцу вторила Мирра. Её миловидное личико приобрело такое склочное, скукоженное выражение, что в полутьме она стала похожа на мать. На московитов почти не обратили внимания, помесь немецко-польско-еврейских выражений сыпалась с панической частотой.
— Что-нибудь разумеешь? — спросил Арсений, постояв.
Михайло разом утратил дорожную весёлость.
— Даром я, что ли, кувыркался с Миркой на всех сушилах... Дурные вести. Осцика взяли. Мирка вопит, он-де Наума выдаст, подклеит к изменным делам, себя спасая.
— Ты говорил ей про изменные дела?
— Ни слова! Эй, Мирка, откуда ведаешь Осциковы умыслы?
Она только мазнула сажистым взглядом по любовнику и вновь напала на дядю, поникшего тяжёлым носом:
— Гойше копф....
Михайло запустил пятерню в её мелко-змеистые кудри:
— С кем из замка споткалась?
Ей было больно, но капризно-страдальческая ужимка выглядела фальшиво.
— В шинке гуторили про Осцика. Пусти!
— Ври! А что ты тут про Миревского клепала?
— Под стражей у надворного маршалка... А!
— Тэж вести с шинка? Понятно, почему тебя у пана Альберта за конюшней видели. Я думал — блудила. Сколь тебе в замке платят?
Миревского, свидетеля по делу Осцика, Николай Юрьевич отдал на береженье родичу своему, надворному маршалку Альберту Радзивиллу. В голосе Мирры прорезался визгливый страх:
— Ты сам у замке кормился! Московские вести толмачил, со шпенами споткался.
— А т-ты откуда знаешь?!
Вырвавшись, Мирра закричала на голом идиш, хлеща Михайлу какими-то ужасными признаниями, не предназначенными Неупокою. Братья Нехамкины молчали, обречённо воздев ладони. Ужели Михайло завязил лапу в литовском мёду?