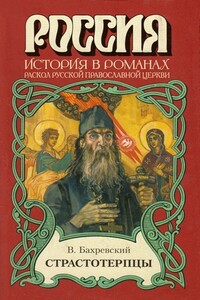День гнева - страница 46
Звон не затих, как из разбитого зева дома вытек низкий вопль.
— Двойра! — рванулся Наум, нарушив наставление Лота и Бога иудеев.
Из-за конюшни выскочили трое, один подсек дубиной ноги, другие завернули руки, вздёрнули с хрустом. Неупокой не вышел из тени разлапистой липы. Скользнул за ствол, слился с забором. Скоро перестал слышать рёв Нехамкина.
Он не успел добраться до Осиного шинка, когда увидел зарево. Горели и шинок, и два соседних дома. Затихающий грохот копыт и ругань давали надежду, что Михайло утёк. Осталось предупредить Нащокина и отсидеться в посольском подворье... За углом скрипели колеса. Неупокой увидел двуколку и еврея, торопливо отчинявшего ворота. Испуганный, усталый гешефтмахер слушал его, как душегубца. Пришлось достать заветный дукат. Золото — не серебро, окисленное жадным потом множества рук, оно и в сумерки опаляет глаз. Хозяин передал поводья, без веры наказав, в какой корчме «у Вильне поставить клячу, коли на то будет ваша святая панская милость».
Привычная к ночным поездкам, кобылка бежала ровно, с робким укором оглядываясь на седока. Ладно гоняют, так забыли покормить! «Овёс вином смочу», — пообещал Неупокой. Поверила... Июньская ночь густела, насыщалась запахом клевера, в тёплом безветрии застаивавшимся над лугами. Убывающий месяц с предсмертной щедростью изливал остатки света на пыль дороги, сине-чёрные листья и серебристую солому крыш. В отцветающем вишеннике нет-нет да и почудится сорочка на белом плечике, как вышитое полотенце на свежем каравае, и оцарапает тоска по незатейливой любви, домашнему устойчивому счастью... И оно обман! «Привязанности, — размышлял Неупокой, осаживая грусть, — делают нас оглядчивыми, уязвимыми, а самовластную душу — зависимой от близких наших, так что её и погубить недолго». Вспомнились — Венедикт Борисович, Наум... Монашеская жизнь основана на этой истине. Но плотский человек доверчиво влечётся к обольстительному огоньку в окошке придорожной хаты, к сдобному плечику и детским голосишкам. Михайло пророчит: расстрижёшься! А вдруг?
С купальского грехопадения до самых московских мытарств Неупокой всё глубже проникался сознанием, что живёт неправильно, не по своей душе. Но выход виделся не на затоптанных тропах к семейному пристанищу или к братским кельям, а в чём-то ещё не прорисованном, сладостно-одиноком. В тюрьме говаривали, что умный беглец уходит от товарищей, ищет свободы в одиночку. Душа его металась на цепях: то вспоминались укорно крестьяне Сии, воспринявшие новую веру, то монастырская либерея[56] с неразобранными рукописями, порученная ему и брошенная, словно постылая малжонка, то тёмные дороги шпега или искателя невероятных приключений в новооткрытых странах... Всё — не его! Единственная надежда отыскать своё — не сильничать судьбу рассудком, ждать наития. Многим Господь указывал путь на исходе жизни, и смерть отодвигалась, чтобы просветлённый исполнил предназначенное.
Вильно спал глубоко и покойно, словно не только сенаторы, шляхта и лавники, но и последний еврей-маравихер поверил в полную безопасность во глубине окрепшей, вооружённой страны. Нехай на одринах ворочаются бессонные московиты... Чужака Неупокоя, как погрузился в ущелья улиц, пробрало оглядчивой жутью. Не спрятаться. Калитки со смотровыми щелями и тусклоглазые мезонины казались зрячими. В каждой сторожке чудился соглядатай. Лошадка же, помня про овёс с вином, только что не вольту танцевала на звонких торцах мостовой. Из каждого двора манил её запах конюшни.
Венгерский дозор остановил Неупокоя, когда он уже решил, что добрался благополучно. Конные и оружные, в железе и грубой коже, они скучали в этом объевшемся, обогатевшем и слишком тихом городе. Монах в жидовской таратайке выглядел забавно, как паучок на стекле. Неупокой опередил их медленно вызревающую шутку: