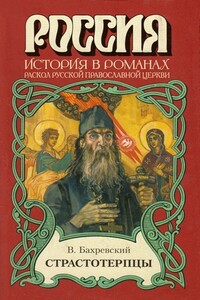Темнело, заворачивало на мороз. Неупокою было хорошо. Парился в бане. Крупная галька в коробе каменки пшикала пивным паром, тело со жгучей сладостью окуналось в него, только ноги на полу ломило от уходящего холода. «Ништо, — утешил Неупокоя невидимый, обычно присутствующий в снах, — скоро они отвалятся». —«Не надо!» — воззвал Неупокой, и милостивый невидимый вырвал его из сна, как репку из прихваченной морозом грядки.
Ноги корёжило в сапогах, даром что с меховым чулком. В башке стояла та же тьма, что и вокруг. Иначе он вряд ли решился бы на отважное странствие — через закрытые ворота Китай-города и Земляного, в Андроньев монастырь. Он был уверен, что его там ждут.
В ту ночь решёточным сторожам был дан наказ — задержанных тащить в холодную при Земской избе, не глядя на чины. Как ни замазывали городские власти случившийся беспорядок, государь прознал, всполошился по обыкновению и выделил дьяка для разбора. Неупокой не помнил, добрел ли до ворот. Сивушный яд и рукоять бердыша, с ленивым удовольствием опущенная ему на голову, отбили память. Очнулся на широких нарах, где рядом, впокатуху, закутавшись в рогожи, поскуливали похмельные.
Ни рясы, ни сапог. Одно исподнее и, слава Богу, меховые чулки. На темени — кровавая короста. Удар пришёлся вскользь, кость не проломил. Голова болела от другого. Неупокой поднялся, огляделся.
Холодная при Земской занимала просторную бревенчатую клеть. Обшивки и потолка не было, из-под тёмного шатра крыши сочился холод. По стенам тянулись нары из плах, покрытые дерюгами. Одежду и обувь отбирали. У запертой двери, возле единственной свечи, бодрствовал страж, в чём Неупокой убедился, кинувшись за справедливостью.
Он заколотил в каменно-неподвижную дверь, завыл в окошко: «Требую владычного суда, бо инок есми!» Сзади подошёл спокойный, усмешливо-доброжелательный бугаёк и положил руку на плечо. От неё исходила такая сила, способная сломать ключицу, что инока тут же унесло на место. Рогожка хранила его тепло, он завернулся и затих.
Уснуть не удавалось. Так, плыл по медленному времени на беспутном плоту, то укачиваясь до дурноты, то сотрясаясь в ознобе, вслушиваясь, не к утрене ли звонят в Покровском храме, через площадь. С дурнотой сладил, но естество непобедимо. Вновь поволокся к утонувшему в овчине стражу. Тот буркнул:
— Изгага? Али посцать? Вон бадейка, да крышку зачини, воняет.
Из-под деревянной крышки ударило таким настоем, что впрямь едва не вывернуло. Справив нужду, Неупокой двумя пальцами взялся за скобу на крышке и услышал знакомый голос:
— Погодь!
Распутывая завязки на исподних, к бадейке устремлялся давешний ветеран из кабака. Из-за обрубленного пальца ему было трудно управиться.
— Старче, ты как сюда попал?
— Яко и ты, богомолец государев! Понятно, отчего бессильны ваши молитвы.
— Ты и в преисподней станешь лаяться?
— А где придётся, мне бесы не указ.
Старик был не в себе от унижения. Взяли тёпленького при облаве. Надо было пересидеть в затишье, так ведь замёрз! Здесь потеплее, пьяницы навздыхали. Облегчённый, ворчливо позвал:
— Бери дерюжку да ко мне, скоротаем остатний час. С кем очутился, Господи! Ведь я вина мало пью, в кои веки, в Москву выбравшись, острамился.
— Чей родом?
Выяснилось — Перхуров с Шелони, приехал издалека искать управы на выбивальщиков. Несколько лет назад ходатайством Бориса Годунова ему, калеке, было оставлено имение, покуда сын его Гость войдёт в служилый возраст. Тому исполнилось двенадцать, надо служить, но не в боевых же войсках против наёмников Батория! А выбивальщики грозят, и дьяк разрядный им потакает: не явится, отнимем и поместье и жалованье — восемь рублёв в год! Пойдут в поход, Перхуров перед конём государевым возляжет, пусть копытами дробит... Последняя надежда — Годунов, но до него добраться нужны и время, и деньги на поминки челяди. Часть денег Перхуров с приятелями пропил, заначку пошарпали решёточные сторожа.
Из-под рогожи выпросталась бугристо-мятая рожа:
— Говорливыя! Дайте забыться.
Перхуров сочувственно примолк. Он тоже хотел покоя, но безысходные мысли крутились веретеном, опутывали липкой пряжей. Бормоча: «Гнусно, гнусно», — заворотил на голову вонючую дерюжку и скорчился на голых брусьях.