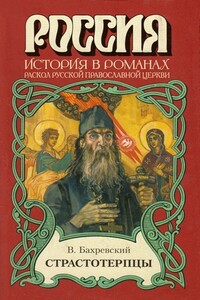В день встречи с Ксюшей, в самый разгар молебна у Покровской башни возле походного налоя упал не камень, а железный катыш с куриное яйцо. Стреляли венгры из-за реки, из длинноствольных пушек, стараясь накрыть не только стену, но и жилые строения, давно оставленные жителями. А день выдался ясный, со жгуче-терпким утренним морозцем, сменившимся солнечно-слёзной ростепелью. Нынешние молитвенные распевы погрузили Неупокоя не в богословские пропасти, а в мечтательную реальность, где расстрижение Ксюши, совместный побег неведомо куда, любовь к уроду и прочее немыслимое — возможно... Кусок железа вернул его в действительность.
Служители сворачивали хоругви, прятали чашу со святой водой, толкались у входа в башню. Священник и иноки Печорского монастыря вели себя степеннее, не кланялись свистящему дробу. В изножие стены ударили тяжёлые ядра. Сотрясение через плитняк, скреплённый наскоро и рыхловато, отдалось в ноги. Со смотровых площадок закричали, что «литва шевелится», подтягивается к шанцам. Обстрел усилился. От башни, недавно восстановленной, отвалилась глыба, как льдина в ледоход.
И у защитников возникло ощущение какой-то плавучей неустойчивости, открытости с обоих берегов — хоть галься над ними, хоть расстреливай. Человек знает, что от судьбы не убежишь, и всё же обороняется, сторонится болезни, сабли, семейного несчастья. От ядер оборониться можно только в башне, и там можешь погибнуть под обломками. Жестокая игра, удача-неудача в чистом виде угнетали людей, они жались к опорам тесового навеса, к тыловым лестницам. А пора готовиться к отражению приступа, литва решилась на отчаянное. Стрелецкий сотник сорванным голосом сказал священнику:
— Ступай в город, святой отец, не мельтеши ризой-то.
Священник махнул служителю, чтобы сворачивал покров.
Неупокой остановил его:
— Службу-то ты не завершил, отче. — Холодно сотнику: — Делай своё, а мы своё. Спроси, кто хочет причаститься, у нас просфоры остались и преждеосвященное вино.
Он вспомнил, на каком слове прервали службу. Подошёл к налою, обратился к востоку и продолжал за священника. Кто сам играет на рожке или сопели, музыка раскрывается богаче, до глубины, в то время как многим слушателям кажется неискусной. Произнося слова, тысячу раз пропущенные не через сердце, а через слух, Арсений впервые проникался их магической значительностью. С ним повторялось уже испытанное во время крестного хода. Он снова ощущал присутствие таинственной силы, как бы искристым облаком сгущавшейся над походным алтарём и подчинявшейся притяжению молитвы. Он не знал, испытывали ли её воздействие другие, но в нужных местах, указываемых сотником, стали задерживаться, собираться люди и делать то, что им велели. В эти недолгие минуты Арсений твёрдо знал, что ни одно ядро не одолеет искристого облака. А остальные, судя по поведению, хоть на минуты, да почувствовали себя защищёнными от тёмной игры.
Только гордыня и любовь язвят больнее пуль... Творя молитву, Неупокой не мог изгладить воспоминания об утренней встрече, и суетная часть его существа невольно красовалась перед Ксюшей, как если бы та видела его перед налоем, под ядрами. Лишь изначальный его порыв был совершенно бескорыстен, безоглядчив; но как недавнее его мечтание подпитывалось несбыточной надеждой, так и этот порыв, всплеск веры и отваги, хоть корешком, да погружался в грешное его, плотское естество. Одному Господу известно, как там переплетаются все эти нежные и грубые, чёрные и белые корешки.
И только он догадался о замутнённости и суетности своей молитвы, стена под ногами осела, известковая пыль забила нос и горло. Стрельцы, вкушавшие с копьеца омоченные вином просфоры, метнулись к башне. Проморгавшись, Неупокой увидел далеко внизу усыпанную щебнем жухлую, обесцвеченную морозом траву. Стена у самого налоя расселась трещиной, Неупокой остался на глыбе, нависшей в нестойком равновесии. Грохот стих, от венгерских шанцев катился победный вопль. Сейчас приступят, решил Неупокой.
Он удивился и порадовался своему спокойствию. Лишь холодок пробрал сквозь утеплённую рясу. Отступив от трещины, он на карачках спустился со стены и переполз к башне, где оказалась большая часть стрельцов, детей боярских и священник. Карабкаясь наверх, Арсений обратил внимание на их молчание и неподвижность. Все следили, как он оскальзывается на глыбах, один стрелецкий сотник додумался помочь, и то рука его, дрожащая и ледяная, робко захватила запястье Неупокоя. Он раздражённо спросил: