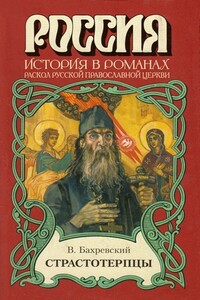— Ах, Ксюша! Никак, меня за беса приняла? Так обуродовало?
Вытащил крестик из-под рясы, поцеловал. Делал как бы в шутку, а в глазах боль.
— Живой ты, дяденька Неупокой?
— Бог терпит зачем-то, гоняет по земле. Хотелось повидать тебя. Знаю, нельзя, да сердцу уставы не указчики. Как живёшь, не спрашиваю, радуюсь. Всё вызнал про тебя. Обо мне нечего толковать, мне келья — единственное прибежище, не чаю иного. И туда прежние грехи подобно змеям заползают, нет покоя. Но всё пройдёт.
Говорил отречённо, а в тонковатом, обнажённом, как осенняя ветка, голосе звучали трепет и какое-то оттаявшее придыхание. В глазах, устремлённых на Ксюшу, мерцала та же восхищенная жадность, какую она привыкла видеть у Михайлы. Только ответно ничто не шевельнулось в ней, будто и не было того прощального подарка перед отъездом Неупокоя в Литву, и не преследовали её видения, и бес в образе Неупокоя не приносил платочек... Даже не жаль его было, а отчуждённо и немножко гадко. Нет, не из-за уродства его, а из любви к Михайле. Он догадался и замолчал, опустив глаза. Оба молчали так тяжело, разоблачённо, что Ксюша возмечтала: вышел бы на крыльцо хоть кто-нибудь! В приюте было тихо, словно там все поумирали.
— А здесь Михайло, — пролепетала она. — Раненый.
— Благо не убит. Навещу, коли не прогоните. Рана тяжкая?
— Нехорошая, в голову. Изнутри язвит его. Ты про Филипку вестей не имеешь?
— Филипка у запорожских казаков. Воры увезли его, казаки приютили. Сказывают, одержим местью.
— Спаси тебя Господь за благую весть!
Главное, брат живой. Жизнь впереди, увидятся. Она разулыбалась, но как-то мимо Неупокоя, в бледно-бирюзовое небо, исчерченное яблоневыми ветвями. Он произнёс с холодком:
— И тебя спаси Господь, Калерия.
Она устыдилась: сколько не виделись, а поговорили как чужие. Что ей всё греховное чудится, глупой!
— Дя-аденька Неупокой... Когда Михайлу навестишь?
Вновь протянулась паутинка прошлого, обоих пронизал невнятный трепет той ночи последнего прощания, когда она ему сорочку принесла и платочек. Он не поднял головы:
— Заутра сызнова пойдём на стену с хоругвями. Буду жив, приду.
— Побереги себя.
— Твоими молитвами, Ксюша.
Уходил быстро, знакомо выпрямляя спину, а руки, как все стеснительные люди, пряча в широкие карманы рясы. У калитки не обернулся. Господи, сбереги его! Всех было жаль, так жаль.
Затворившись у себя, она молилась, чтобы Бог сохранил жизнь Михайле и Неупокою. Даже не узнала его нового имени. Старалась, чтобы «раб твой Алексий» звучало так же проникновенно, как «Михаил», но это не совсем удавалось. Пошла в обход покоев, задержалась у пытаных немцев, щедро обмазанных мельханами от ожогов и поверивших наконец, что муки кончились. Закончила обход у Михайлы.
Он имел вид человека, что-то обдумавшего и ждущего поделиться. Но прежде пристально вгляделся в Ксюшу, уловив на её замкнувшемся личике тень переживания у одра замученного литвина. Он не мог догадаться о содержании её открытия, но любящим, надорванным болезнью сердцем учуял отчуждение и захотел вернуть уже испытанную власть над нею.
— Сядь.
Ксюша опустилась на скамеечку, вновь оказавшись вровень и очень близко к лицу Михайлы. Но от него теперь не родным теплом, а тленом потянуло. Ксюша ещё не знала, что человеку, впервые прикоснувшемуся к смерти, отравленному её близостью, тленное чудится во всём. Да если бы и знала, глаза её, уже не затуманенные плотским соблазном, невольно различали нехорошие признаки на блёклых щеках дорогого, до родимого пятнышка знакомого лица. Помня его двухнедельной давности, вдруг обнаружила, как непоправимо изменилось оно, и окончательно уверилась, что это, по слову травницы, «печать»... Но обречённый любимый не должен знать о ней.
И она легко, как умеют женщины, стала лгать ему улыбкой и бессознательно подобранными словами о том, в чём Михайло боялся разувериться. Ему хватило, чтобы вновь разгореться, выплеснуть накипевшее:
— Не отвергай, родимая, не отвергай, что я умыслил, то не грех, а вещь природная, угодная Богу! Ведь не своей волей ты постриглась и уж очистилась от... скверны. Ужели не учтёт Он твоих страданий и молитв? Нарушив невольный свой обет, ты две души спасёшь для жизни, для любви. Мою и свою. И иные души призовёшь. Разве детишки не угодны Богу?