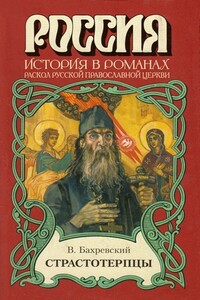Он ничего уже не хотел, кроме прекращения боли — любой ценой. Перестарались костоломы. Пальцы, изуродованные тисками, почернели не от прилива крови, как сперва решила Ксюша, а от её гниения. Всё тело приобрело синюшный тон, по опавшему лицу пошли землистые пятна, в очах — какое-то ороговение, одичалость. Если, по предложению старицы, отпилить ему ладони, воли не осталось вытерпеть новую боль, а позже — жизнь. Душа рвалась из развороченной клетки, цепляние за прутья было невыносимо. Они ведь мягкосердые, литвины. Наши и немцы — крепче.
Занялись немцами — рыжими, долгорукими, костлявыми. Родом, как оказалось, из Шотландии, там половина мужчин в наёмниках, служат всем европейским государям. Ксюша всё отвлекалась на литвина, что-то удерживало её возле разломанного тела. Или кто-то удерживал, заботясь о её душе. Сообразила: он чертами, статью мучительно напоминал Монастырёва. Такой же лоб телячий, только известково-жёлтый, будто сквозь кожу просвечивала черепная кость. Вдруг до литвина с опозданием дошло, о чём вещала старуха в чёрном: руки пилить! От ужаса перед грядущей болью он не успел даже молитвы пролепетать, хватанул воздуха и вытянулся. Пастор, раньше Ксюши уследивший это мгновение опустошения тела, вытянул над мёртвым руки. Путь ему указывал или, судя по трепету пальцев, следил, как сила невидимая исходит из плоти? Об умирании темно толкуют ересиархи и святые отцы. Христос — молчал... Ксюша, уставясь на мёртвую плоть, вспоминала: как полчаса назад припадала к такой же с постыдным желанием. Ведь не было ей дела до души Михайлы, а лишь до горячих висков его и жадно разверстых губ! Вот они — без души: так отвратны. Вот то в чистом виде, что инокиня Калерия хотела ласкать и лелеять, даже остаток дней посвятить. Разве ей не приснилось на прошлой неделе, как она Михайлу потчует разварным судаком в деревне, в своём дому... Плоть, питаемая плотью. И всё сгниёт.
Ксюша вышла на садовое крыльцо. После ранних морозов потеплело, на яблоневых сучьях и смородиновых кустах оттаивал куржак, крупные капли падали на многослойную бронзово-бурую и жёлтую листву. Отчего мёртвые листья благоухают свежо и горько, так что от прихлынувших воспоминаний прихватывает дыхание, а человеческие трупы смрадны? Не потому ли, что Богу угодна жизнь деревьев, а человеческая земная не угодна, ибо возникла по козням злого духа или, как полагал святой Филипп, из-за ошибки? Диалектические сомнения редко занимали Ксюшу, но если уж задумывалась, то вычерпывала до донышка, всякий раз убеждаясь, что ничего там, кроме непробиваемого донышка, нет. И посоветоваться не с кем. Игуменья не жаловала философии, а отец духовный, белый поп[92], охотно выслушивал лишь исповеди, влезая в потаённое, от богословских вопрошаний уходя... Вон бродит по саду странный инок с низко надвинутым куколем, не дерзая приблизиться к больнице. Ксюша его давно приметила и доносила матери игуменье, та отмахнулась: по саду бродить не возбраняется, верно, за недужных молится или спроста уродивый. Ксюша чувствовала, что — не спроста, кого-то он ей походкой и вдумчивым наклоном головы напоминал, тревожил. Вид — книжный... Многое мог бы разъяснить. Окликнуть, пренебречь уставом? Столько уже нарушено ради болящих, раненых и бедных. Нельзя укрыться от соблазнов мира, пытаясь утолить его печали. Да и уставы монастырские чрезмерно построжали только при нынешнем государе, всей России давшем безжалостный устав. Давно ли по постановлению Стоглавого собора закрыты смешанные мужеско-женские монастыри, сожжены бани, где мылись вместе монахи и монахини... Что за срамные образы стали преследовать Ксюшу, стоило дать послабление чувствам, своенравным мотыльком вспорхнуть на огонёк! Жестокое борение ведёт ангел-хранитель за её слабую душу. Помочь ему молитвой... Но вместо затверженных слов вырвалось:
— Калугере! Тебе невместно тут ходить!
И осеклась: из-под куколя смотрел жестоко обуродованный, искажённый лик Неупокоя. Не иначе, диавольское видение, как в тот крещенский день. И тогда был странно искажён, но иначе, в другую сторону, для соблазна. Случается во сне — видишь ужасное, бесовское, а крестного знамения не сотворить, рука каменная. Ксюша как глыбу своротила — перекрестилась, выговорила: «Да расточатся врази...» Улыбка на обожжённом, изодранном лице вышла и жалкой и жутковатой.