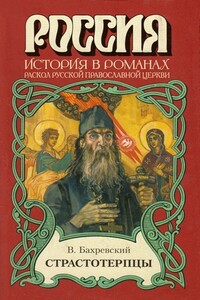Так лечат и неисцельные болезни. Живая сила между ладонями пронизывает больную плоть, все её волоконца и сосуды, удерживающие душу, внушает волю к выздоровлению. Святые наложением рук творили чудеса, Ксюша надеялась на маленькое чудо.
Чем глубже любовь к больному и чище помыслы, тем верней исцеление. Ксюша была уверена, что все её помыслы чисты... Но стоило ладоням коснуться горячих висков Михайлы с жёсткими кудельками, отросшими со дня ранения, как нежная иголочка проникла в сердце Ксюши, и брызнул из острия тонкий бесовский яд, взмутивший мысли и желания, и заболело одно неисполнимое: припасть ещё и губами ко лбу, подернутому потным бисером, выпуклому, как у норовистого, но добродушного телёнка. Взгляд женский острей мужского пронизывает цветное оперение избранника, зато и сердце легче мирится с недостатками. В Михайле Ксюшу привлекал отнюдь не гибкий или глубокий ум, вообще — не ум, а чистая, здоровая натура «витязя» в самом простонародном понимании. Она угадывала-вспоминала этот сказочный, прилетевший из детства образ, всматриваясь в глаза любимого, как в выставленные весной окошки: ни пыль, ни копоть, ни талые потеки не мешают заглянуть в самую глубину светёлки. Но то, что высветил там лучик любви и любопытства, наполнило её отчаянием: всё это безумно, радостно желанное было не для неё!
Тихим голосом, звучавшим убедительнее всех запретов, Михайло приказал:
— Поцелуй меня, Ксюша.
Непочатый кувшин склонился над чашей, и долго не прерывалась тягучая, горьковато-сладкая струя — ещё, ещё! Подобно хмелю, пряностям и медовой сладости, перемешались в кувшине щедрость с жадностью, и уже устье готово было опрокинуться, чтобы ни капли не осталось, всё — твоё... Но как по Рождестве Богородицы «всякое лето кончается», так иссякает и мёд, и всякое счастье, и наслаждение. Из-за двери позвали:
— Мати Калерия! Нужда до тебя.
Ксюша отшатнулась. В дверях стояла сестра Марфуша. Так звали её не по уставу за миловидность, юность и прилипчивую ласковость, простиравшуюся, кажется, не на одних монахинь: уж больно сочно выделялись на пухлом личике с голубоватыми подглазиями сладкие губки, вечно сложенные в призывной полуулыбке. Её подозревали по меньшей мере в мысленных грехах... У Ксюши горячо отяжелели веки. Странно: эта смазливая инокиня, неведомо за что, но явно не добровольно постриженная, оказывалась рядом всякий раз, когда Ксюша страдала от искушения. Как будто тёмным силам, охотившимся за её душой, нужна была именно такая свидетельница. Ксюша принудила себя взглянуть в её прищуренные глазки:
— Пошто зовёшь?
— Пытаных привезли, страшимся принимать.
— Литвины?
— Чаю, и трансильванцы есть. Лютеровой ереси, папёжской веры. Куда их, к нам, в приют? А приказано лечить.
— Страдание всех уравнивает. Сказано — нет ни еллина, ни иудея.
Псковские воеводы жестоко пытали «языков», захваченных во время вылазок, чтобы узнать, где ведутся новые подкопы, какие замыслы у короля. Несколько подкопов взорвали встречными зарядами, но венгры и поляки не унимались. Пытаные открывали, что всех подкопов девять или десять, «каждый начальник свой подкоп поведоша: подкоп королевский, польский, литовский, скорый и похвальский, угорский и немецкий...». Выяснилось, что «напереде угорский подкоп поспеет». Но направление подкопов хранилось в такой глубокой тайне, что ни один «язык» даже под костоломными и огненными пытками открыть не мог. Из пыточных подвалов выпотрошенных пленных передавали на лечение в приют Калерии. Лечите, выволакивайте из смертной пасти, мы пленных не убиваем.
Вместо монахинь к иноверцам приставили посадских жёнок. Кроме охраны при них находился пастор с Немецкого подворья. Все трое — литвин и два немца — оказались лютеранами. Бритое лицо пастора казалось стянутым иссохшим рыбьим пузырём. Он изо всех сил скрывал отношение к тому, что сделали с его единоверцами. При появлении Калерии встал, одним свечением голубых глаз выказав симпатию и приглашая совместно возмутиться воеводским варварством. Ксюша осенила себя крестом, как кисеей заслонилась. Что бы ни творили безумцы с раскалёнными клещами, слуги Божьи должны не осуждать, а вершить милосердие. Он деликатно отступил в угол, Ксюша и старица-травница склонились над литвином.