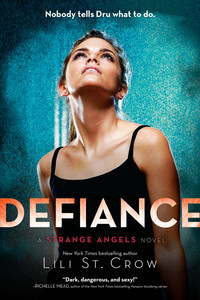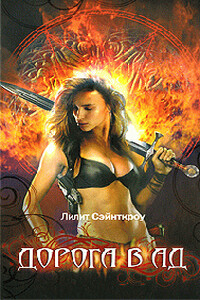Черные волосы и милые глаза, кожа, пострадавшая хуже, чем от следов сыпи у Валентинелли, его левая рука была кривой и висела с плеча, что было выше, хорошие ноги были бы завистью многих людей времен Убийцы жен, когда придумали носить чулки. Его пальцы были тонкими, а зубы — кривыми.
Такой была цена исцеления у главного. Или это избиения в детстве так исказили его, и исцеление полилось в него, как вода в надбитую чашку.
«Свет еще сияет, хоть сосуд и странный», — сказал он как-то, и Эмма, смеясь, поцеловала его твердый горячий лоб.
«Ты и твой свет. Чем он тебе помог?» — она не упустила вспышку боли в его темном взгляде тогда, но почти не обратила внимания. А потом увидела, как он смотрит в стороне на Бал шарма ее школьных лет, его лицо тогда было открытой книгой, а Эмма была в руках Левеллина Гвинфуда и смеялась.
Она редко сожалела, но порой… И после того бала Ким Рудьярд и Ллев кричали в мужской половине спален.
«Ким был бы рад узнать, что расстроил меня».
— Спасибо, — она поправила перчатки и замерла. — Я надеялась, ты будешь здесь.
— И я тут, — его улыбка была ироничной, без веселья, показывала желтые зубы. — Принеси чай, Строглин, вот так. Мы будем в библиотеке, — руки целителя напряглись, кости выпирали на костяшках. Он тряхнул ими, чуть скривившись, и она мысленно скривилась.
«Они еще беспокоят его», — в ее горле был горячий комок.
— Спасибо, но времени нет. Его мало, и…
— Для главной ты очень спешишь, — отметил он, студент что-то пролепетал и поспешил за чаем. — Веди своего Щита. Он похож на народ.
«Нет».
— Возможно, — она оставила это так. Он вежливо относился к Микалу, что делали редкие, ведь он совершил непростительное, подозревался в убийстве главного, которому служил. — Болезнь. И она не волшебная. И она ударила внезапно…
— И все же, — он оставил ужасную привычку перебивать ее. — Ничто не лечится в спешке. Идем.
* * *
— Ясно, — Томас устроился в стуле, сделанном для его спины. Его библиотека была высокой и узкой, а он был широким и кривым. Большие книги в кожаных обложках на полках из розового дерева дрожали от секретов. Многие были великими текстами Белой дисциплины — исцеление, созидание, именование — хотя у именования не было цвета, оно служило, чтобы описать. Главные ветви исцеления были представлены почти ровно: трисмегистусианцы, гипократиане, и почти серые гипатиане, а еще смущающие гностики, которые праздновали из-за болезни. Некоторые тексты поменьше были яркими, как камни, и дорогими, травы и трактаты о теле и жидкостях, рисунки анатомии из учений Михаэля Анжело, учения о разных болезнях и рисунки попыток лишить смерть приза.
Романов тут не было, как те, что были у кровати Эммы. Ничего легкого. Шар малахита на бронзовой подставке был на столе с тремя стопками бумаги вокруг, чернила и три ручки на подставке из эбонита казались правителями.
Томас постучал пальцами по правому подлокотнику, что был ниже левого и изгибался, поддерживая его.
— Припухлости, говоришь? Подмышки, горло и…
— Пах. Физикер хотел проверить, что в них, — Эмма сохраняла голос ровным. Он мог слушать, но не мог двигаться быстро. — Это произошло так внезапно.
— Ясно, — протянул он. Это не был вопрос, он отмечал место в разговоре, пока он думал.
Раздражение зудело на ее коже.
«Я не могу это исцелить. Скажи, что ты можешь. Скажи, что знаешь, что это».
— Я боюсь за него.
Вот. Это было сказано. Потрясенная тишина повисла в библиотеке. Хорошо, что тут не свисала бледная ткань с белого потолка, иначе ее нетерпение, едва сдерживаемое, порвало бы эту ткань. Или превратило обрывки в стекло. Это было бы зрелищем.
— Ах, — веки Томаса чуть опустились. — И ты пришла ко мне.
Микал у двери молчал. Она ощущала его внимание, вдруг она ощутила усталость от того, что была женщиной в мире глупых, но сильных мужчин. Они все усложняли.
Томас хотел отомстить, возможно, за ее отношение к нему, но Эли страдал. Щит, ее Щит… а она была беспомощна.
Боже, как она ненавидела это ощущение. Потому она так верно служила Британии?
Она хотела ответ на этот вопрос?
Она встала, не обращая внимания на его порыв встать, как джентльмен. Она собрала юбки онемевшими руками.