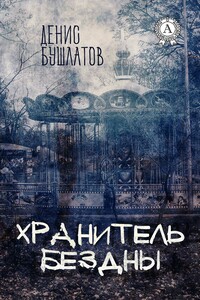на яму, вырытую им в мусоре. Ложись и жди. Ручки сложи аккуратно, укройся чем-
нибудь, ну вот, хоть книгами, тут большей частью стихи, и жди. Глаза ты, конечно, зря не
съел - теперь уже поздно. Будешь на том свете ответ держать перед покойником. Так
бы… отрыгнул и отдал ему, что ль… Как сдохнешь, я сердце взвешу, не сейчас.
Пожав плечами, демон встал, отряхнулся, распушив хвост, и побрел во тьму коридора.
Анатолий Петрович проводил его взглядом, сделал несколько шагов и упал в могильную
яму, вырытую котом. Было ему тепло и покойно проваливаться в Гумилева и Гаршина,
растворяться среди Теннисона и Байрона. Они поглотили его. Обрушилась тишина,
нарушаемая лишь сонным хоралом воспевающих вечную жизнь мух…
В бесконечной тьме преисподней пребывающий во мраке змей Апоп сухим холодным
жалом облизнул губы в предвкушении трапезы.
Aftermath
Хомову уволили с работы в субботу, 20 апреля. Этот день остался в истории
человечества благодаря одному весьма значительному событию, однако
Хомовой было не до истории. Стоя перед директором морга, она испытывала
жгучее желание оказаться в своей постели, сонной, распаренной, с ватой в
ушах. Все происходящее казалось ей ночным кошмаром, спастись от которого
можно было лишь проснувшись.
- Вы, Хомова, уволены, - басил тем временем директор, глядя на нее поверх
очков. - У вас, Хомова, опасные тенденции. Вы, Хомова, радикал. Вас к
кадаврам на полверсты подпускать нельзя. Вы, Хомова, просто диверсант
какой-то! Лет тридцать назад вас бы за такое…
- Матвей Сергеич, - икнула Хомова, - я же не нарочно… В порядке
эксперимента. По методу Шигеева!
Директор посмотрел на нее так, будто Хомова только что опорожнила
кишечник прямо ему на макушку.
-Хомова, идите вон! Или вы напишете заявление по собственному желанию,
или я вас выпру отсюда на законных основаниях. И можете подавать на меня в
суд. Видеть вас на территории я не хочу ни минуты больше!
Полчаса спустя Хомова брела по Французскому бульвару, с трудом ощущая
свое тело. Все представлялось ей зыбким и изменчивым. То бредилось ей,
будто ноги ее превратились в тумбы и поднять их нет никакой возможности, а
нужно просто стоять и ждать, пока она сама затвердеет и станет монолитной
скифской бабой. То виделось, что это ее саму забальзамировали по методу
Шигеева, и забальзамировали настолько удачно, что внутренние органы
возобновили свою работу. То вдруг показалось, что она снова молода и только
устроилась работать в судмедэкспертизу, и не сделала аборт, и не превратилась
в пятидесятитрехлетнюю пенсионерку с подкрашенными волосами и нелепыми
голубыми тенями.
- А выпер, ну и пусть! - ненавистно думала она. - Что мне, с трупами-то?
Хватит мне с трупами!
Но бравада эта не придавала ей уверенности.
Хомова состарилась в одиночестве. Не было у нее детей, что чурались бы ее,
не было и внуков, чтоб называть ее прилюдно бабушкой, а за спиной -
старухой. И мужа, постоянно находящегося рядом, расплывающегося с
возрастом, маловнятного, с неприятным запахом изо рта, рассеянной улыбкой,
животом, что выглядывает из-под майки, тоже не было.
А теперь не было и работы.
Хомова не то чтобы тяготела к работе. Сообщество мертвых не доставляло ей
болезненного некрофильского удовольствия. Никогда не ощущала она в себе
стремления прикоснуться к мертвому телу с целью иной, нежели вскрытие или
консервация. В то же время мертвые казались Хомовой единственными
честными представителями человеческого рода. В мертвецах не было ни капли
жеманства, ни грамма фальши. Холодные и равнодушные ко всему, они могли
быть как идеальными собеседниками, так и лучшими друзьями. Каждый раз,
проводя вскрытие, Хомова испытывала затаенную радость - ведь удаляя
ненужные больше комки плоти, засыпая внутрь брюшной полости опилки,
вправляя сведенные «rigor mortis» челюсти, она тем самым не только
оказывала мертвым услугу, за что ожидала подспудно вознаграждения после
смерти, но и доказывала тщетность любой философии, ставящей человеческую
жизнь во главу угла.
Мертвецы любили Хомову. Не раз замечала она тень призрачной улыбки на
увядших устах. Не раз, сквозь полуприкрытые веки, следили за ней белесые