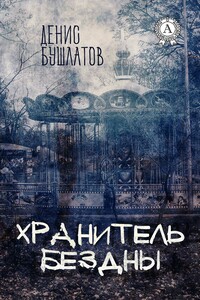протягивая руки ладонями вперед, будто предлагая еще одну кровавую жертву
холодильной камере.
Внутри холодильника уже почти ничего не было. В его вонючих и теплых недрах
осталось лишь три небольших целлофановых пакета. На двух из них черным
фломастером было написано: «Инна, гр. лев.» и «прав.», на третьем криво намалевано:
«Манн - глаза».
- Это….это… - пролепетал Карьеров, - это…
Поскуливая, он встал, сразу постарев на двадцать лет, и побрел к входной двери
поскальзываясь на горах мусора, в темноте.
-Л- лектричество, - бормотал он на ходу, - вык-выключили… Они… за неуплату…они…
приходили… Я не открывал… Я… занят был…
Возле двери он, собравшись с духом и дико взвизгнув, глянул-таки в засиженное мухами
трюмо. На него уставилась заросшая спутанной бородой, черная от грязи и засохшей
крови рожа с искаженным в гримасе ртом.
-Я-я... - булькал рот. То и дело между зубами проскальзывал черный, разбухший язык.
По щекам, оставляя дорожки в грязи, текли слезы.
Отвернувшись, Анатолий Федорович рванулся к двери, споткнулся о сломанный стул и
чуть было не упал, но, удержав равновесие, схватился за дверную ручку и, левой рукой
отодвинув собачку замка, что было сил потянул дверь на себя...
...и остановился, услышав за спиной низкое мяуканье. Электрическим разрядом пробило
его, и, втянув голову в плечи, медленно повернулся он и увидел толстого одноухого кота, ожесточенно рывшего лапами в куче мусора. Лениво и надменно глядя на Карьерова
болотными глазами, кот аккуратно сел, обнял себя хвостом и требовательно мяукнул.
-Я же не хотел! - взвизгнул Карьеров так громко, что наверняка услышали его и на улице, -
я же не мог! Я забыл все, Господи!
- Говори, - промурлыкал кот и медленно кивнул.
Остекленевшими глазами глядя на кота, Карьеров говорил. Каждое слово было гвоздем в
крышке его гроба. Каждый звук рубцевал его сердце. Он говорил громко, отчетливо
выплевывая из себя фразы, а Апоп, чудовищный египетский демон истины, слушал его,
мурлыкая вполголоса.
Анатолий Федорович рассказал коту о том страшном вечере с полгода тому, когда
полупьяным вернулся он из командировки и застал жену в объятиях друга. Как,
помутившись рассудком, сквозь вату выслушивая вялые реплики Манна и мышиный писк
жены, прошел он на балкон, взял топор и резво обрушил его сначала на голову друга, а
потом уж изрубил вопящую жену. Как до утра почти пилил он непослушные коченеющие
тела в ванной, отделял мясо от костей и упаковывал его в целлофан, надписывая каждый
пакет. Как рано утром, сгибаясь под тяжестью ужасной ноши, он крался, аки тать, на
детскую площадку неподалеку от заброшенного пятиэтажного дома, которую давно
должны были снести, и закапывал под горкой кости вместе с памятью. Как на обратном
пути, уже не совсем понимая, что сотворил, встретился он с простоволосой старухой, и
она вручила ему Новый Завет в яркой обложке и яростно просила прочитать, прочитать
дома. Как позже, тем же днем, зашел он к соседу сверху, полувменяемому старику-
географу, отнес ему диффенбахию в горшке и сказал, что уезжает с женой в отпуск на
полгода в Пермь, а оттуда, глядишь, и в Краков, и попросил собирать почту и
приглядывать за вазоном. Как ночью пожарил он себе оладьи и сдобрил их свежим еще
мясом супруги с твердым намерением съесть ее и любовника. Как утром следующего дня
проснувшись, он в магазине, что прямо под домом, купил консервов и круп на всю почти
зарплату, подмигнул продавщице и объяснил, что, дескать, не помешает, ведь времена
сейчас лихие. Как, вернувшись домой, снова увидел жену веселой и здоровой, щебечущей
на кухне и помнил только, что выходить из дома нет надобности и кушать нужно много и
сытно. Как он ел и ел, и ел, не обращая внимания на запах, на червей в мясе, появившихся
после отключения электричества… А иногда, вдруг, в порыве диком, звонил соседу-
географу и рассказывал ему увлекательные истории о жизни в Перми и обещался
вскорости вернуться и показать фотографии Кракова. Как скребся в его душе грех, рос,
гнил и разлагал его нутро, как, наконец, гной заполонил его и утопил…
- Это ты хорошо рассказываешь, душевно, - мяукнул Апоп, - покаянно. Он лапкой указал