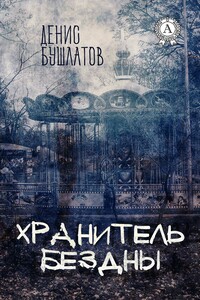Пахло прелой листвой, окурками и немного мочой. Отчего-то здесь Анатолию Федоровичу
сделалось хорошо и спокойно. И вспомнился любимый момент из детства. Когда его семья
въехала на новую квартиру, еще не была внесена вся мебель, был теплый, немного
ветреный осенний день, и все двери – и на балкон и на веранду - были настежь
распахнуты. Отец с матерью о чем-то шутили на кухне, а он завалился в обуви на
двуспальную кровать и наслаждался теплым сквозняком, наблюдая за солнечными
отблесками на блестящем паркете. Именно тогда и возникло это щемящее и такое
упоительное чувство: время остановилось - и весь мир, и солнце, и ветер были только
для него… И чувствовалось, что дальше будет еще лучше, эти чудесные мгновения будут
приходить все чаще – он научится улавливать их, пока они не сольются в один сладостный
беспрерывный, доступный только ему калейдоскоп…
« Нет, я не хочу вспоминать дальше!» - замотал головой Анатолий Федорович. Но память
была неумолима.
Небо вдруг потемнело, вместо чистого осеннего воздуха в нос маленького Толика ударил
густой смрад от разлагавшегося под окнами чудовищно разбухшего пса, а из кухни
донесся ставший внезапно чужим скрипучий истеричный выкрик отца: «ЧЕРВИВАЯ!» И
послышались тягучие звуки непонятной возни.
На ватных ногах Толик медленно шел на кухню, навстречу неотвратимо приближающейся
судьбе. Не такой, как он рассчитывал, а именно такой, какая была ему положена.
« Если бы я прыгнул тогда в окно? – размышлял Карьеров, - было бы это моим выбором
или лишь послушным марионеточным кивком тому, что предписано заранее? Впрочем, к
черту… Опять мысли пойдут по кругу… Противно… Однако я так и не сиганул в окно
после… Отчего я не прыгал?! Трус, ничтожество! Господи, как это все омерзительно…»
Карьеров поднес руки к лицу, намереваясь не то выдрать себе глаза, не то разорвать
пальцами рот… «Манн В.С. - ничтожество», - тускло сообщала немного затертая надпись
на обложке книги, которая была в его левой руке. Карьеров открыл наудачу, при этом
нетерпеливо бросив создававший помеху мешок на влажный асфальт.
«…Из чего снова следует, что субъект этот – назовем его, ну, хотя бы Карьеровым, трус, ничтожество, завистливая бестолковая дрянь и шелуха человеческая. Эдакая настолько
неописуемая сволочь, что я предпочел бы ползать на карачках и слизывать мокроту
туберкулезников с тротуара прямо возле диспансера в самый людный час, нежели погань
эту пускать в свое жилище и, сверх того, поить чаем из фарфора.
Но ты уже знаешь, дорогой читатель, что терплю я эту плесень лишь ради науки, пусть и
лирической ее формы, если тебе будет так угодно».
Некоторое время Анатолий Федорович тупо глядел в книгу. Сознание отказывалось
воспринимать смысл написанного, однако перечитывая пассаж раз за разом, Карьеров
добился того, что слова красным цветом запылали в голове.
«Трус! Ничтожество! - верещало внутри. - Погань! Туберкулезники!»
-Ах же, говорил я, говорил, - засуетился Карьеров, приседая на корточки от острой боли в
сердце, - ведь предупреждал, а она: «друг-друг», заладила со своей дружбой, - пальцы его
сомкнулись на брошенном было мешке и сжались в кулак, - я тебя, сволочь, убью.
Нелепо подпрыгнув, Анатолий Федорович устремился вперед. Теперь вся стать его
выражала решимость, вся желчь, что накопилась в душе, готова была выплеснуться
наружу и поглотить ненавистного друга целиком, без остатка.
Он шел нервно, быстро, то и дело оглядываясь по сторонам, крепко ухватившись за
ставший ему вдруг близким и родным мешок. Темнело. В подворотнях падшего города
сгущались тени. Карьеров полубежал вдоль омерзительного вида дороги, узкой, как
голодная кобра, сплошь покрытой выбоинами и ухабами, напоминающими о язвах
прокаженного. Машины, грязные, с запотевшими стеклами, набитые пассажирами, как
животы пассажиров прокисшими внутренностями, теснились вдоль дороги, богомерзко
сигналя. То и дело Карьерову грезились монструозные очертания неведомых существ,
что, притаившись в подворотнях, тянули к нему свои скользкие лапы. В лихорадочном
замешательстве в одном из черных проемов проходных дворов на секунду привиделось