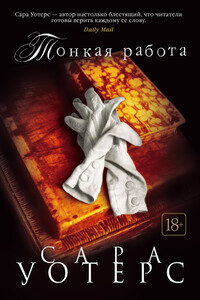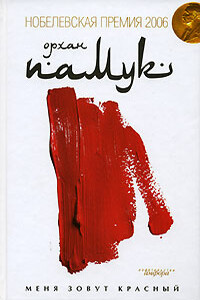– Что вы хотите этим сказать?
– Эта ночь может стать последней в вашей жизни, паша. На решение, принятое судом Мингерской республики, не могут повлиять ни Стамбул, ни великие державы.
И Сами-паша, содрогнувшись, понял, что его казнят, дабы показать всему миру, что никто не волен вмешиваться в дела независимого мингерского государства.
Сами-паша все никак не мог смириться с неизбежностью казни. Болезненное покалывание, возникшее в области желудка, теперь чувствовалось в спине и в ногах, парализовало разум, сознание; от страха он ни о чем не мог думать, не соображал, что происходит вокруг, не слышал и не понимал, что ему говорят. По пути в крепость его мучила мысль о том, что он, словно дикий зверь, посажен в закрытый со всех сторон, запертый снаружи на засов арестантский фургон. Это было унизительно. Но что хуже всего, на него теперь смотрели как на невиданное животное: с особенным интересом, любопытством, порой даже с жалостью. Приговор был вынесен только что, но Сами-паше казалось, что все о нем знают.
Когда фургон въехал в ворота крепости и медленно покатил к Венецианской башне, Сами-паша увидел сквозь вентиляционную щель, что перед обращенным на запад зданием османской постройки, где находились самые большие камеры и где вспыхнул бунт, рядами разложены мертвые тела. Равнодушно сосчитав их (двадцать шесть), он обратил внимание на то, что поодаль жгут тюфяки, одеяла и прочие вещи, принадлежавшие умершим узникам тюрьмы и изолятора, и оттого двор затянут густым вонючим дымом. После того как шейх Хамдуллах отменил карантинные меры, а работавшие у огневой ямы солдаты Карантинного отряда разбежались, желающие сжигать вещи умерших делали это самостоятельно. Так поступало и начальство тюрьмы.
Неподалеку от мертвецов, разложенных в строгом порядке и ожидающих вечера, когда за ними приедет покойницкая телега, лежали умирающие, человек семь-восемь. Кто скорчился на тюфяке или простыне, кто валялся прямо на камнях, которыми была вымощена земля в крепости. Несчастные бились в конвульсиях, исходили рвотой, кричали от боли. Случилось то, чего больше всего боялись: чума охватила всю тюрьму, все ее здания. Сами-паша догадался (подсказал опыт), что этих больных снесли во двор, думая, что они все равно скоро умрут и вечером их трупы заберет телега.
У ворот крепости, ее тюремной части, стояли верные шейху Хамдуллаху охранники, но на тюремном дворе людей в форме Сами-паша не увидел, все разбежались.
Когда фургон ненадолго остановился (что-то преградило ему дорогу), двое из распоряжавшихся теперь на тюремном дворе заключенных, подойдя к нему вплотную, принялись о чем-то спорить – в первый момент Сами-паша даже не понял, на каком языке. Они были так близко, что он чуял их запах и слышал их хриплое дыхание. Потом фургон снова тронулся в путь, а Сами-паша подумал, что если бы эти бандиты знали, как близко от них находится бывший губернатор, то, пользуясь нынешним хаосом, вполне могли бы вытащить его из повозки и повесить, прежде чем до этого дойдут руки у людей шейха Хамдуллаха. На подъезде к Венецианской башне паша снова увидел трупы жертв чумы, на удивление аккуратно уложенные в четыре ряда по четверо, и с грустью понял, что они не вызывают у него никакой жалости.
Смертный приговор превратил его в законченного эгоиста. Зрелище чужой смерти не огорчало его – возможно, потому, что свидетельствовало: загробный мир действительно существует и по пути туда он не будет одинок. В голове пульсировала единственная мысль (она-то и делала его эгоистом): как же остаться в живых? Надо найти перо и бумагу и отправить письмо консулу Джорджу.
Но, едва оказавшись в своей камере, окрашенной морем в странный синий цвет, Сами-паша горько, навзрыд заплакал и долго не мог успокоиться, молясь про себя, чтобы никто его сейчас не увидел. Наплакавшись, Сами-паша лег на охапку соломы в углу и, по милости Аллаха, смог на десять минут уснуть. Во сне он видел, что вышел на свободу и вместе с матерью, держа ее за руку, гуляет в саду тети Атийе. Сад был полон мягкого желтого света, в нем росли ромашки и стоял колодезный сруб. Мама показала ему на во́рот колодца: там сидела, скребя по вороту когтями, огромная ящерица, но она была не страшная, выглядела дружелюбно.