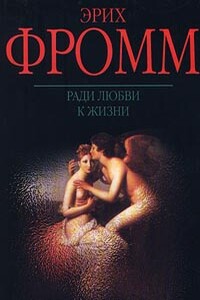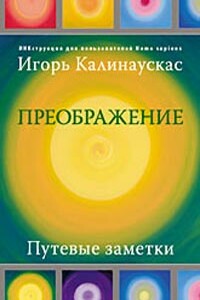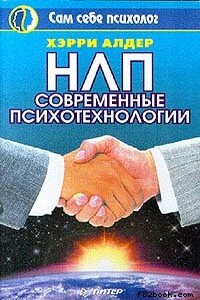Моя фантазия исчезла в холодном свете последующих дней. Я знала, что мы никогда не обесчестим память Ронды, скрыв ее самоубийство. Я написала письмо друзьям и родственникам, сообщая им о событиях, приведших к ее смерти. Я надеялась, что мое письмо утихомирит неизбежные слухи тем, что открыто признает ее депрессию и ее решение покончить с собой. Я умоляла их говорить с нами о ней часто и открыто; поступить противоположным образом значило бы отрицать ее существование.
Я никогда не намеревалась начать кампанию противостояния или ликвидации связанного с самоубийством клейма. Больше всего имело значение то, что мы, любившие Ронду, не должны позволить обстоятельствам ее смерти приуменьшить память о том, чего она достигла. Я объясняла, что она “забрала свою жизнь” (taken her own life) и что она “умерла от самоубийства” (she died of suicide). Выражение, которое я отказывалась и отказываюсь использовать по сей день – это презренное «совершила самоубийство» (committed suicide), подразумевающее криминальность совершенного. Исторически – это было орудие мести против оставшихся в живых, и ему нет места в современном просвещенном обществе.
Многие предпочитают говорить completed suicide, но как родитель, наблюдавший 20-летнюю борьбу моего ребенка против демонов клинической депрессии, мне это тоже не нравится. “Умерла от самоубийства” или “умерла посредством самоубийства” – аккуратные, эмоционально нейтральные выражения, объясняющие смерть моего ребенка.
[…] Ронда была одаренным ученым, писателем и археологом, которая, как и моя мать, страдала со взрослого возраста маниакальной депрессией (также называемой bipolar disorder). […] Мои мать и дочь обе невыносимо страдали в борьбе, пытаясь покорить и скрыть свою болезнь. Никто из них не победил в этой битве, но моей матери благоприятствовали лекарства, которые приуменьшили амплитуду колебаний, и она умерла от рака в 87 лет. Печально, но врачи не обнаружили волшебного рецепта, который бы облегчил страдания Ронды. Она закончила жизнь в возрасте 36 лет, после года жестокой депрессии, вызванной жизненными стрессами вне ее контроля. Я вплотную наблюдала эту битву и была свидетелем ее храброй битвы за жизнь. Она отчаянно хотела жить. Она умерла оттого, что думала, что у нее нет другого выбора.
В своей откровенной книге “Раскрывая секреты” великий теолог Фредерик Бaкнер описывает самоубийство своего отца, произошедшее, когда автор был еще ребенком. Заговор молчания, навязанный Бакнеру и его брату, наложил глубокий отпечаток на его развитие и отношения с членами семьи. “Мы больны, как и наши секреты”, – заключает он.
Мы, чьи дети забрали свои жизни, должны сделать все возможное, чтоб избавиться от секретности и клейма, которые окружают их смерти. Если мы позволим этому сохраниться, то мы тем самым приуменьшим значение жизни наших детей. Они заслуживают большего»>[39].
К сожалению, страх перед людским судом порой обоснован. Иногда родные и близкие покойного сталкиваются с шушуканьем за их спинами, молчаливым или явным неодобрением по поводу их поведения и обвинениями в их адрес. Такое поведение по отношению к людям, переживающим горе, бесчеловечно. Они и так казнят себя каждый день!
Смерть и я
Про свои чувства писать трудно: это была целая буря, истрепавшая и истерзавшая. Обида на брата (бросил меня одну доживать свои дни с грузом забот и тягот, с ответственностью за близких), злость на себя как на идиотку, не видевшую очевидного, безграмотную дуру, не сумевшую помочь единственному брату, недовольство родителями и мужем, что не сумели подобрать ключи к сердцу любимого брата, боль и жалость к брату, испытывавшему предсмертные муки, чувство нереальности и абсурдности происходящего, то чувство, о котором, наверное, писал как-то Вадик: «Сердце вырвано».
Годы спустя встретила стихотворение Анатолия Мариенгофа «После этого» – самоубийства единственного, одаренного умом и красотой 17-летнего сына.
Там место не открытое,
Над белой вазой клен.
Душа моя зарыта там,
Где сын мой погребен.
Все кончено,
Отказано
Волненью горьких лет,