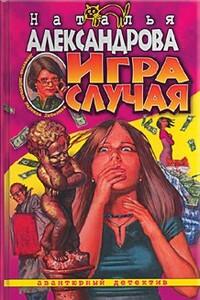— Борис Андреич, когда вы вошли, что вы наблюдали?
Ордынцев вошел в комнату, окинул ее взглядом.
— Стасский стоял чуть левее… так, правильно. А господин лейтенант — вполоборота к нему. Когда я вошел, они разошлись. Да, примерно так.
Полковник и лейтенант изобразили мимическую сцену и остановились в разных концах горницы.
— Так, вы стояли там же, где сейчас? — уточнил Горецкий и сделал пометку на своем листе. — Теперь вошли Колзаков, Сильверсван и Юлия Львовна. Прошу, входите!
Все трое вошли друг за другом. На открытом лице Колзакова читалась неловкость оттого, что он занят таким глупым несерьезным делом.
Горецкий сверился со своими записями и громко сказал:
— Фатима-ханум, прошу!
Фатима, как обычно закутанная до глаз, вошла в горницу, внесла, как в роковой вечер, хлеб и изюм. Сама ее поза, наклон плеч кроме традиционной покорности выражали скорбь и недавно перенесенное горе. Она поставила тарелки и вышла. Колзаков, вспомнив свою прежнюю реплику, повернулся к гостям и произнес:
— Извините, господа, у нас только два… теперь уже только один приличный бокал. Для самогона и кружки подойдут, а хорошее вино из них пить не годится.
Горецкий заглянул в свои записи и сказал:
— Сейчас Стасский сделал очередной свой выпад… Борис Андреевич его одернул…
— Да, я сказал: «Найдите себе другой объект для насмешек». Стасский сделал вид, что ни над кем не насмехался…
— Потом подошел черед реплики Ореста Николаевича. — Горецкий снова справился со своими записями, затем подошел к Ткачеву и, взяв его за плечо, осторожно повернул:
— По-моему, Владимир Антонович, вы стояли немного не так.
Ткачев удивленно взглянул на него, пожал плечами, но подчинился.
— Орест Николаевич, ваша реплика! Сильверсван, наморщив лоб, постарался припомнить свои слова:
— Господа, сейчас не время ссориться. Наш долг забыть разногласия и объединиться перед лицом красной опасности… После моих слов Стасский снова сказал колкость…
— Да, и затем капитан Колзаков открыл бутылку и разлил вино в бокалы. Я попрошу вас, господин капитан, сделать все так же, как и в тот вечер, только вино налить для Юлии Львовны в кружку, — простите меня, сударыня, второго бокала нет, а для нашего эксперимента особенно важен тот бокал, из которого пил Стасский.
Юлия Львовна согласно кивнула. Колзаков открыл бутылку и разлил вино.
— Теперь, господин лейтенант, вы должны начать свое прочувствованное выступление, — обратился Горецкий к Ткачеву, — если вы не вспомните его дословно — не страшно, но постарайтесь двигаться примерно так, как в тот вечер… А вы, господа, поправляйте его, если что-то будет не так.
— Господа, — неуверенно, без прежнего воодушевления начал Ткачев, — в этом году мне не удалось отпраздновать Рождество. На самый праздник пришлась эвакуация из Новороссийска, это было так страшно… Впрочем, вы все это знаете.
— Еще бы, — подтвердил Борис.
— Так вот, — продолжил Ткачев, и голос его постепенно окреп и набрал почти такую же силу, как в роковой вечер, — я предлагаю вам сегодня отпраздновать Рождество. Конечно, это несвоевременно, совершенно не соответствует календарю, но прежде я никогда не пропускал этот праздник. В мирное время вся семья собиралась вокруг елки… В этом был такой уют, покой, такое счастье… Так давайте отпразднуем Рождество сегодня, вопреки календарю! У нас есть хорошее вино, с нами прекрасная дама. — Ткачев, как и в первый раз поклонился Юлии Львовне, но она не ответила ему улыбкой.
Лицо ее было напряженно и печально. Горецкий заглянул в свой конспект и сказал чуть театральным голосом:
— Скоро Пасха, а вы Рождество собрались праздновать. — С этими словами он подал знак Колзакову, и капитан произнес заученно, как старательный гимназист:
— Лейтенант прав, — пусть на дворе весна, и сейчас не время по календарю, но мы с вами отпразднуем Белое Рождество… Крым — это плацдарм, с которого начнется наше наступление.
Колзаков замолчал. В его голосе не было убежденности, которая звучала в прошлый раз, в нем была обреченность и тоскливое равнодушие.
— Рождество-то у нас получилось черным, — мрачно заметил Сильверсван.