Дети, в школу собирайтесь,
Петушок пропел давно…
Поскорее одевайтесь —
Смотрит солнышко в окно…
— Знаю! — хриплым басом отзывалась Верка, но детское эгоистическое здоровье брало свое, и она тут же безмятежно засыпала.
Полежав минуты с три, отец приподымался и, убедившись, что стихи не произвели желаемого педагогического воздействия, продолжал громче, выразительнее:
Человек, в зверь, и птаха —
Все берутся за дела.
Только Верка-замараха
Глаз своих не продрала…
— Я не замараха… — вновь просыпалась Верка.
— Вот будешь смазчицей… В школу ходить не хочешь — пойдешь колеса смазывать… На железной дороге…
— Сам ты будешь смазчиком, — втягивалась в пробуждение Верка.
— Я что ж, — искусно удерживаясь на грани дремы и бодрствования отец, собираясь нырнуть в глубокий сон тотчас же, как только уйдут дети. — Я две академии закончил, военную пенсию получаю. С меня хватит…
Она росла незаметно и незаметно сделалась налитой соком десятиклассницей, с прекрасной кожей, женственной фигурой, румяными щеками, живыми черными глазками, и уже провожали ее до подъезда, стесняясь себя, длинноногие угловатые подростки из соседней мужской школы.
А после выпускного вечера июньской ночью она заявилась домой с толпой подруг. Мама была в отъезде, отец, либерал в душе, с показным ворчанием ушел с раскладушкой на кухню. На столе появилась — одна на восьмерых — бутылка портвейна, и веселье продолжалось с новой силой.
Заводилой была Люба Белкина, дочь генерал-полковника, самоуверенная, сыпавшая словами. Она заявила, что подает документы в геолого-разведочный институт и на самый трудный факультет.
— Ай да наша Любка! Ай да Белка!
И Любка мгновенно отзывалась:
— Да, я такая! Я могу!
Николай робко возразил:
— Ваше ли это дело — геология? Еще попадете в переплет — в тайге, в пустыне… Это для мужчин…
Нагнув лобастенькую голову, Люба возразила:
— Лучше умереть стоя, чем жить на коленях!
Она любила цитаты, говорила цитатами, даже думала цитатами и не обязательно литературными. У нее были цитаты из самой себя, она постоянно себя цитировала. На каждый случай жизни существовала готовая фраза из небольшого набора, так что во второй и третий раз можно было уже предугадать, что она скажет и как ответит.
Когда портвейн был выпит, тосты произнесены, желания загаданы, Николай пригласил всех смотреть утреннюю Москву — с их крыши.
Крыша эта занимала в жизни Николая свое и не такое уж маловажное место.
4
Она была односкатной, обозначавшей девять этажей, которые выходили на улицу, и восемь — во двор. Ничем не огороженная, крыша, некруто подымаясь, таила затем внезапный обрыв. Николай однажды едва успел ухватить за пиджак университетского приятеля и модника Диму Печенкина, который уже готов был ступить в пропасть, полагая, что за коньком следует другая половина ската.
Жарким летним днем на крышу отправлялся отец, захватив с собой бидон с водою и первую попавшуюся книжку. Он по беспечности и недостатку средств дач не снимал, часами загорая на старом одеяле.
В отроческие годы Николай боялся высоты и, поднявшись по железной лесенке к люку крыши, выбравшись на ее ржавую поверхность, тут же бессильно садился. Дрожало под коленками, кружилась голова. Но постепенно он осмелел, стал подходить к самому краю и даже залезал на башенку, высившуюся посредине ската.
Башенка была этажа на два, непонятного назначения. Во время войны на ней стояла зенитная установка из счетверенных пулеметов. Туда вела полусгнившая деревянная лестница, но Николай предпочитал подниматься по ржавым металлическим скобам. Ни стекол, ни двери в башенке не было, и ветерок свободно гулял, шевеля обрывками старых газет на щелястом полу.
Город сразу приседал, принимал форму вогнутой окружности, открывал свои окраины. Николай плыл в воздушном море, разглядывая далекие берега — кирпичную трубу хлебозавода, мерцающий в темной зелени крест Ваганьковской церкви, четкий силуэт теплоцентрали.
Он набирал воздуха в легкие и декламировал любимых в ту пору поэтов — Маяковского и Гейне. На филфаке они оба были всеобщими кумирами, хотя Маяковский пересиливал Гейне: трое старшекурсников даже брили головы «под Маяковского»…





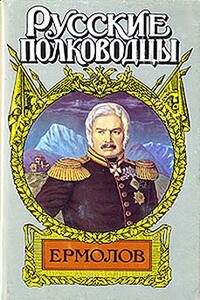



![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)

