Ночами Николай Константинович лежал без сна в хорошем номере старой губернской гостиницы, думал о том, как тихо было здесь когда-то: процокает редкая лошадка или простучат сапоги запоздавшего мастерового. А теперь до утра не стихал натужный рев самосвалов, сплошной лентой текущих туда, за Волгу, где в сказочных, помнящих разинские походы местах строился самый большой в Европе комбинат химии. Николай Константинович вставал, плотно притворял окна, опять ложился на узкую жесткую постель, прижимался щекой к плоской подушке. Но калорифер мгновенно наполнял комнату таким банным жаром, что пот теплыми слезами стекал с лица и даже набитая пером подушка начинала издавать острый запах куриного бульона.
Вернувшись в Москву, предвкушая отдых и покойный, в своей постели сон, Николай Константинович встретил на площадке соседа-писателя с неизменным эрдельтерьером на тугом поводке.
— Ну, как? Изучали жизнь, а теперь приехали у нас хлеб отбивать? Писать романы? — с легкой косоротостью от торчащей пустой трубки сказал тот.
— Нет, я раздумал, — просто ответил Николай Константинович.
Торжествуя, сосед стал катать трубку во рту, ища окончательный ответ, чтобы афоризмом закрепить свое превосходство, но тут раздался сухой треск. Злобный эрдельтерьер, нетерпеливо дергавший хозяина за штанину, ловким закройщицким приемом отхватил по шву полбрючины, открыв лиловую писательскую голяжку.
— О-о-о!.. — только и донеслось до Николая Константиновича. И, подхватившись, сосед кинулся к своей двери, а эрдельтерьер, распираемый малой нуждой, помчался вниз.
6
Как это расхожая литература и дурацкие стертые слова могут передать состояние влюбленности — бездумной, юношеской, невинной!
Николай шел с Запятой широкой аллеей ВДНХ, стараясь будто бы ненароком прикоснуться к ней, к ее легкому платьицу, плотно облегавшему девичье тело, и в то же время не переставал любоваться своими новыми, сверкающими шоколадным лаком чешскими туфлями.
— Опять шнурок развязался, — блаженно улыбался он и опускался на колено. — Шелковые… Вот и скользят…
— А ты их послюни… — так же улыбаясь, отвечала Запятая.
То, что они говорили друг другу было пусто для третьего и исполнено для них самих величайшего смысла.
— Ты работать пошла или учишься? — спрашивал Николай.
— Поступила в педучилище… Очень детей люблю… — улыбалась Запятая и сбоку косящими серыми глазами, не мигая, глядела на него.
Они прошли мимо золоченых, помпезных павильонов, мимо веселого зеленого стадиона, где по кругу водили тяжелых мохноногих першеронов, миновали белую узбекскую чайхану в облаке шашлычной гари, пруд, усеянный разноцветными лодками, и оказались в пустынном, почти девственном лесу останкинского имения Шереметевых.
— Я слышала, что у Веры ученый брат, — тихо рассказывала Запятая. — О чем-то умном пишет, декламирует стихи, получил премию на конкурсе чтецов… Думала, очень гордый… А ты — простуша… такая лапушка… — Она быстро погладила его по щеке, коснувшись очков.
Николай ощутил, что Запятая знает что-то такое, чего не знает он, взял ее маленькую крепкую ручку в свою и повел к скамейке, над которой шелестел, закрывая небо, древний годами, верно, видавший еще господ Шереметевых дуб.
Нечто таинственное и прекрасное — Николай чувствовал это — ожидало его.
Перед поездкой на Выставку они с Запятой зашли к нему, выпили по рюмке сладкого «Карданахи» и закусили шоколадными конфетами, щедро насыпанными мамой в синюю хрустальную вазу — семейную реликвию, пережившую все многочисленные переезды родителей.
Отец с матерью уехали к родным, на Смоленщину. Верка, поступившая вместе с Любой на клубный факультет Библиотечного института, отправилась до начала учебного года на уборочные работы в подмосковный колхоз, и Николай блаженствовал полным господином…
Усадив Запятую на скамейку, он показал ей две узкие полоски грубой голубой бумаги:
— Пойдем вечером в кино? Французский фильм… «Плата за страх»… Все хвалят…
— В каком кинотеатре?
— Да напротив моего дома, в «Смене».
— А кончится не очень поздно?
— Часов в одиннадцать… Пришлось взять на последний сеанс. Больше билетов не было, — солгал Николай.





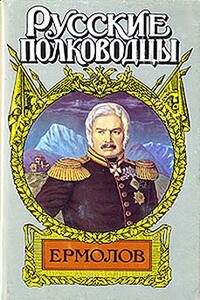




![Неоседланные лошади [Сборник рассказов]](/uploads/books/images/1c/1c16ca2920b359b5ad73cd59634fdad6e7101e6f.jpg)
