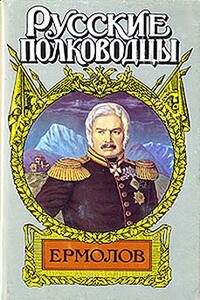Там автомобилю так же сложно приткнуться к обочине, как в каком-нибудь провинциальном американском городишке, чьи обитатели давно уже задыхаются от техники, техники, забензинивающей, заникотинивающей, замарихуанивающей их бедную душу.
Там образуются многочисленные водовороты и завихрения: библиоманов у двухэтажного Дома книги, собирателей дисков у магазина «Мелодия», пиволюбов у бара «Жигули».
Там во всю мощь электрических плит и официантских ног работают экспресс-буфеты, шашлычные, кафе; там две тысячи гурманов одновременно садятся за столики ресторана «Арбат».
Там…
Там по теории вероятности в слитной человечьей массе сложнее всего выделить какое-нибудь знакомое лицо.
Но теория вероятности, очевидно, и существует прежде всего для того, чтобы жизнь ее все время опровергала. На Новом Арбате Николай Константинович встретил Запятую.
2
Он живет одиноко, близорук и играет на театре, никогда не видя лиц зрителей. Большого актера из него не вышло: Николай Константинович это прекрасно понимает, знает, что в лучшем случае получит под старость заслуженного РСФСР и что на его смерть «Вечерка» откликнется маленьким квадратиком: «Дирекция театра с глубоким прискорбием извещает, что после тяжелой и продолжительной болезни скончался…» Николай Константинович убежден, что болезнь будет тяжелой и продолжительной.
Он не любит свою среду, заученные шутки на вечеринках и песенки под гитару хорошо поставленными голосами, так неотразимо действующие на провинциальных девиц. Ему противны неизбежные романы, которые тянутся годами и превращаются во второй, параллельный брак. Он не участвует в интригах из-за распределения ролей и в борьбе, которая раскалывает любой театр, — доживающего последние дни старого главрежа с его молодым конкурентом. Но его до мурашек в теле волнует сцена, запах кулис; некрасивый в жизни, он, сняв очки и преображенный гримом, преображается внутренне: вдруг ощущает в себе того скрытого, потаенного, которым он и был. И вместе с первыми фразами роли: «Вы слышите, Серафима Владимировна? Я понял, что у них внизу подземелье… В сущности, как странно все это! Вы знаете, временами мне начинает казаться, что я вижу сон, честное слово!» — сам живет уже сказочным, нездешним сном…
Но надо просыпаться и идти к себе домой. Даже нет, не домой, а в свою квартирку, так как дом предполагает очаг, якорь, семью. Он не спешит. На раздевалке возле служебного входа сиротливо висит старенькая дубленка Николая Константиновича монгольской фирмы «Дайран». Он решительно надевает ее, прощается с усатой сторожихой, перебегает пешеходным тоннелем грохочущий, сверкающий огнями Новый Арбат и паутинными переулками бежит — к метро, к метро.
Он и одинок, и страдает от избытка общества, — как это часто бывает с подлинно одинокими людьми. Не то чтобы квартирка его превращается временами в забегаловку, нет. Но в те дни, когда Николай Константинович начинает тосковать, незнамо как и незнамо откуда являются один за другим разномастные дружки, длится бестолковое застолье, многочасовое и все более мучительное, пока он, как некий объевшийся человеческим планктоном кит, не уходит от них в сторону и не выбрасывается на берег. Тоску сменяет непонятное ему самому леденящее чувство собственной малости.
На одной площадке с Николаем Константиновичем живет писатель. Он мал, сух, декоративен, стрижен благородным седым ежом, преувеличенно интеллигентен, говорит с утрированным старомосковским произношением, хоть и родился очень далеко от Москвы, где-то в восточной Польше. Его «шыги», «аатменно», «гварят», «гаалубчик», вызывают у Николая Константиновича мгновенный прилив мизантропии. И вместе с тем сосед притягивает — притягивает к себе загадочностью писательской натуры.
Сколько помнит себя Николай Константинович, сосед уже был писателем. Как в юности, в незапамятные времена, выпустил двухтомный «Дневник писателя», так и затвердил в общем мнении, что он — писатель.
О чем он мог писать? — мучился Николай Константинович. — Какие бури потрясли его? Благополучно женился, народил детей, был аккуратен, не выпивал, курил трубку и рисовал — для себя — японской тушью тоже очень аккуратные рисунки. Ну, в юности еще могли быть увлечения, душа страдала, а теперь? Что он знает? О чем может поведать миру? О собачках и кошечках? Или о детях, которые на самом деле были уже внуками?