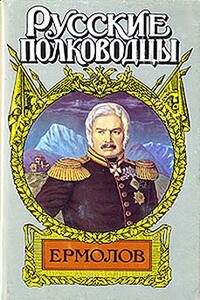Да, в последние годы, перед Гришей, у Зины появились друзья с Кавказа, которые останавливались у нее, привозили хорошее вино, киндзу, чурчхелу. В летнюю московскую жарынь Зину можно было видеть идущей по двору в сопровождении маленького горделивого брюнета в черном строгом костюме, нейлоновой сорочке, парчовом галстуке и огромной белой кепке, называемой в просторечье «аэродром»…
На другой день, когда я лежал пластом, проклиная вчерашнее легкомыслие, ворвалась Зина и еще с порога крикнула:
— Гриша! Разбился!
— Насмерть? — подскочил я с тахты.
— Живой. Так и не доехал до мамы. Растяпа! Налетел на «Волгу», прямо у Института Вишневского…
Я почувствовал в ее голосе раздражение.
Навестили же Гришу мы с Лодыжкиным лишь через два дня.
Забинтованный, с синячищем под глазом, он лежал на тахте и мрачно острил. Феликс обыграл его в шахматы, а я, в утешение Грише, проиграл.
— А Зина где? На репетиции? — спросил Лодыжкин.
— В Грузии. Скоро вернется, — буркнул Гриша. — Оставила меня на этого евнуха!
И он поддел ногой забравшегося на тахту жирного кота.
Лодыжкина я проводил в часть. Несколько раз набирал Зинин номер, желая справиться о Гришином здоровье, но телефон молчал. О новостях нашего двора обычно сообщала любознательная сестра, сказавшая за завтраком:
— Ты знаешь, Зина серьезно захворала…
— Что за невезуха! — удивился я. — Мать в больнице, Гриша разбился, а теперь Зина туда же?
— Да нет! Все из-за Гриши…
Она вернулась с Кавказа, долго звонила в дверь, а потом, шепотом ругаясь, стала искать в сумочке ключи. Когда же вошла, то закричала громко, истерически: «Холодильника нет!» — и упала. Нашла ее Римма, соседка-полковница, вызвала «неотложку». После укола Зина пришла в себя. Она обвела всех взглядом, потом нахмурилась, набрала воздуха, словно собираясь чихнуть, и с криком: «Холодильника нет!» — снова потеряла сознание. Позднее уже могла сказать больше: «Я вошла, гляжу — нет холодильника… И все сразу поняла…»
Беспокоились и за ее жизнь, и за ее рассудок. Но постепенно Зина совладала с собой, снова стала ходить на репетиции и спектакли и тщательно скрывала от посторонних, что Гриша ее покинул…
— Да… Что ж теперь себя ругать! Поздно… — сказал я Зине. — Конечно, я поеду.
— Он был такой внимательный, предупредительный, — всхлипнула Зина и отвернулась, открыв мне худую шею с выпирающим позвонком.
8
Мы с Гришей чокнулись, и он с чмоком, не жуя, заглотал желтый соленый огурец. Молчание стало неловким, он спросил:
— Как Феликс Иванович?
— Пишет редко… Жалуется, давление подскочило. Возможно, ляжет в госпиталь на переаттестацию… Стареем, брат!
— Старость — это не болезнь, а большое свинство, — лучась здоровьем, изрек Гриша и налил по второй.
Чувствовалось, что он избегает даже упоминать Зину, а я не знал, с какого боку подступиться.
— А ты все никак не выберешься из этого гробика, — посочувствовал я, оглядывая узкую темную комнатенку с окошком во двор.
— На беду мою в этой халупе родилась какая-то музыкальная знаменитость середины прошлого века. Так что на снос рассчитывать не приходится. Вот женюсь, отхвачу себе отдельную квартиру со всеми удобствами… — скороговоркой ответил он и осекся.
Несколько секунд мы глядели, выпучив глаза, словно увидели друг друга впервые.
— Какого же черта ты бросил тогда невесту с прекрасной квартирой! — решился я наконец.
Гриша со свистом пустил воздух через ноздри.
— Ты так и не догадался? Зина была мне всегда неприятна как женщина. Да что там неприятна — противна!..
Я даже на спинку стула откинулся:
— Ну и чудеса! Как же тогда ты мог быть с ней вместе? Зачем?
Он улыбнулся снисходительно:
— Она же интересный человек… Дивная собеседница… Столько читает, столько знает…
Чужая душа — потемки. Чего-чего, а такого поворота я не ожидал.
— Мы с ней обсуждали прочитанное, так хорошо говорили за жизнь. Ах, да что там! Мне ее очень жалко!
— Постой, — осторожно сказал я, — но Зина рассказывала мне, как ты был с ней ласков…
Гриша выпил, не закусывая.
— Старался, насиловал себя. Невозможно быть самим собой всегда. Как это сказал поэт? «Бывает сам собой лишь только бык, идущий на убой…»