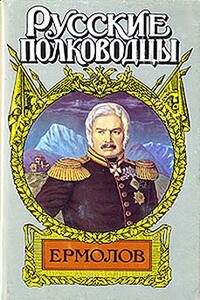1
Из давнего детства, почти небытия, вспоминаю.
Милая моему сердцу Васильевская улица, еще сплошь заставленная двухэтажными бревенчатыми, реже — кирпичными домами. Палисадники с сиренью и цветами «табак». Дворы с голубятнями. Булыжная мостовая, уходящая далеко, к воротам Тишинского колхозного рынка.
Там крашенные зеленой краской ряды ломятся от парного мяса, битой и живой птицы, крупной и чистой картошки, яблок, меда, солений. Там черные радиорупоры исходят женским криком: «Розы белые упали со стола, я надену свой бордовый сарафан, я ударница колхозного труда!..» Там шум, гам, перебранка. В самом веселом ряду торгуют фанерными, дергающимися за нитку человечками с балалайкой, грубо расписанными матрешками, восковыми лебедями, надувающимися пузырями «уйди-уйди!», стеклянными, писающими водой чертенятами, пищалками, дудками, леденцовыми петухами.
А здесь, на Васильевской, — тишина. Сидят на скамейках у калиток старухи — разбухшие или ссохшиеся — и провожают редкого прохожего добрыми, бесцветными от больших слез глазами. И красуется в середине улицы старый барский особняк с пустым геральдическим щитом — ампир середины ушедшего века.
Перед особняком — четыре фонарика на столбах.
Мы — я и Зина — по тайному сговору одновременно вырываемся из рук наших мам, которые замирают от ужаса (а вдруг, не дай бог, грузовик!), и мчимся наперегонки. Кто скорее добежит до первого фонарика? Зина постарше, выше ростом, ее длинные ладные ноги в белых гольфах уже мелькают впереди — я опять проиграл.
Нет уже этих фонариков, перестроен и дом, потерявший свой фасад и ставший частью гигантской остекленной мышеловки. И мы с Зиной уже не те, совсем не те. Но, встречаясь, случайно сталкиваясь с ней, когда она спешит на репетицию или на спектакль в Государственный академический Большой театр, я вижу ее не теперешней. Нет, не сорокалетней, узкоплечей, с длинной жилистой шеей и выпирающими ключицами, в платье, жалко, самодельно повторяющем фасон модного журнала «Вог» — с голой спиной, немыслимыми оборками и огромным искусственным цветком на груди. Я вижу ангелоподобную девочку с двумя русыми косичками. В матроске и белых гольфах. Быструю, голенастую, беззаботную.
Через полтора часа она выйдет на сказочно освещенную электриками сцену в ином наряде — каком-нибудь белом, пенном от кружев платье, расшитом поддельным жемчугом, в рыжем шиньоне, и, обмахиваясь страусовым веером, будет с искусственной медленностью ходить взад и вперед в глубине, среди таких же бутафорски богато разряженных дам и господ, в то время как на авансцене, в тончайшем согласии с волшебными узорами музыки, закружится, то разлетаясь, то соединяясь, сплетаясь, знаменитая пара. И сотни людей в зале, и сотни тысяч у телевизоров будут следить за каждым движением этих воздушно порхающих танцоров, воспринимая дальнюю толпу и Зину с веером как часть искусно расписанных декораций, как продолжение фанерного замка и нарисованных гор на заднике.