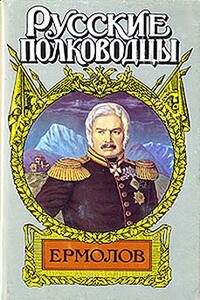Он спросил Алексея:
— Ты проводишь параллель с Бонапартом?
— Я просто напоминаю позабытую нами точку зрения русских военных историков, — немного подумав, ответил тот. — Да вот: «Они отмечали, что трудно сравнивать почти независимого Бонапарта (а впоследствии самовластного Наполеона) с подневольным главнокомандующим. Однако по широте взгляда, остроте ума, по силе железной воли Суворов, конечно, не уступал французскому полководцу, а по глубине образования, знанию военной истории, ясности суждений, насколько это видно из письменных источников, был наравне с Наполеоном, в некоторых случаях даже превосходя его…»
— Очень хорошо. Ведь утверждают иногда, что подобные сопоставления невозможны, что Наполеон был порождением другого, несомненно более передового общественного уклада. Учитывать это действительно необходимо. Но подумай! Оба великих полководца были, хоть недолго, современниками, могли встретиться… А главное, помимо предположений, существуют факты, к сопоставлению которых не может не возвращаться мысль.
— Ты имеешь в виду войну двенадцатого года? — спросил Алексей.
— Не только. Обрати внимание: Суворов не проиграл ни одного своего сражения. С каждым шагом его воинская доблесть и слава только возрастали. Он ушел в бессмертие, прожив полную жизнь и оставшись не фигурально, а фактически непобедимым. А Наполеон? Он был сокрушительно (и не раз) разгромлен. Далеко не лучшим образом кончил свою жизнь. И его несомненное величие осталось в памяти народов смешанным с авантюризмом и стремлением к мировому господству. Наполеону не удалось выиграть сражения против учеников Суворова, в то время как Суворов разбил наиболее способных его генералов. Не трудно видеть, что это было Наполеону предупреждением, которому он не внял. Суворов был солдат. Наполеон — император в полном значении этого слова, то есть повелитель.
Тимохин развел руками:
— Это, конечно, разные дороги, но выбор между ними тоже может существовать…
Алексей еще жил тем, что сказал Тимохин, а тот уже смотрел пластинки, отпускал замечания о дирижерах и исполнителях.
— Могу угостить хорошим сыром, — предложил Алексей. — Ты ведь ценишь сыр не меньше, чем Бен Ган из «Острова сокровищ»…
— Мое любимое произведение! Какие характеры! Какие подробности! — воскликнул Тимохин и тут же полупритворно сморщился: — Знаем, какой у тебя сыр. Ты ведь декадент в быту и любишь все острое. Сознавайся! Рокфор? Латвийский? Камамбер?
— Нет-нет, самый лучший швейцарский по три девяносто кило, из лучшего магазина на улице Горького.
— Тогда я, пожалуй, выпью у тебя чайку, — напустил на лицо мальчишескую гримасу Тимохин.
Как все люди, которые не курят и никогда не употребляют спиртного, он был особенно восприимчив к качеству еды, утверждал, что различает три десятка оттенков вкуса вареного мяса. Боготворил земляничное варенье, свежую рыбу, грибной суп — все, что дается крепкой семьей, налаженным тылом, который обеспечивала ему мама.
С удовольствием, даже преувеличенным, Тимохин поедал сыр, сметая последние крошки своих мыслей о Суворове:
— Вот пример для подражания: личность, сверкнувшая в идеал, в реальность…
— И как несчастен в семейной жизни, — горько усмехнулся Алексей.
— Что делать! Пушкин сказал: «Особенность нашит нравов — нещастие жизни семейственной. Шлюсь на русские песни».
Он вспомнил последнее письмо Алены: «Читаю твоего «Суворова» и думаю: неужели ты относишься теперь ко мне, как Суворов к своей Варваре Ивановне…» Нет, он думал о ней каждый день и час, видел постоянно во сне, но уже без боли и страдания. Было все это с ним или не было, он уже не помнил; он только знал, что это было. Осталась жалость, одна голая жалость.
«Читаю твоего «Суворова»… Когда книга еще писалась, в год их разлуки, Алексей как-то дал Алене главку, которая нравилась ему самому — пир у Потемкина. Утром, за завтраком он спросил: «Понравилось?» — «Ой, Алеша, — призналась она, — только начала читать первую страничку, сразу в сон потянуло. Так и на прочла…»
— Только все слишком поздно, — поднял Алексей глаза на Тимохина, с аппетитом доедающего сыр. — Желание семьи, детей…