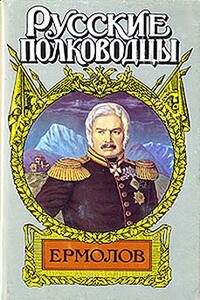Там, на каменной лесенке, ведущей к забитой двери, я и воображал себя капитаном корабля, который держит курс на Святую Елену.
Команду набирала Зина, зачисляя в матросы всех сверстников, включая и слабоумного Юру Пурвина. Большеголовый, с навсегда застывшим радостно-удивленным выражением на лице, очень добрый, Юра, с сухим — как козье блеяние — смехом, исполнял любой приказ. Зина поступала жестоко, обычно отправляя его на разведку местности, иными словами, заставляя лезть на кучу угля. Игра завершалась появлением Юриной мамы, которая под рев разведчика уводила его смывать антрацитовую пыль.
Талант администратора, проявившийся в детстве, Зина сохранила и приумножила. В свободные от театра дни она часами не расстается с телефонной трубкой. Договариваясь с кем-то, уже листает толстую алфавитную тетрадь, ища следующего клиента:
— Нужны мужчины для «Бориса Годунова»… Фильм-спектакль… Три рубля за съемочный день… Сбор перед Киевским вокзалом, у часов…
— Только девочек приводите, девочек. Не старше пятого класса… Да, студия Горького… Встречаемся у метро «ВДНХ» рядом с автоматами газированной воды…
— Приезжает «Ла Скала»… На той неделе начинаются репетиции… Статисты требуются молодые… Получат пропуска в Большой театр…
Нет, не бескорыстная любовь к искусству движет ею. Она точно знает, кого и куда приглашать. И обожатели бельканто, которые смогут много дней подряд видеть и слышать маленького пузатого человечка, от бровей заросшего жестким черным волосом и знаменитого своим феноменальным «до», с готовностью приплатят ей за это счастье.
Жесткость, напористость жили уже в ней, пятилетней. И когда я нашел двугривенный, — целое состояние! — Зина приказала, чтобы кто-то из нас, я или Юра Пурвин, нарушив строжайший запрет родителей, перебежал через Большую Грузинскую улицу, туда, где под щитом кинотеатра «Смена» стояли мороженщицы и лоточницы с конфетами.
Весна, острый апрельский воздух, первая пыль на мостовой. И звон, и гудки, и белый шлем милиционера, машущего посреди улицы жезлом. У ворот мы все трое с остервенением жуем еще горячий вар, который плавился в железной бочке на заднем дворе. Зина подбрасывает монетку. Я, потея от страха, говорю:
— Орел…
Юра радостно кричит:
— Решка!
Конечно, отправляется бедный Пурвин! На мгновение мы с Зиной теряем его из виду, когда мимо с грохотом проносится краснобокий трамвай. Долгая минута, и вот запыхавшийся Юра стоит рядом с нами. В руке у него ребристый новенький карандаш.
Я разглядываю матовые лиловые грани и, выплюнув вар на ладошку, медленно читаю давленую золоченую надпись: «Пионер… Сакко… и Ван-цет-ти… 1938 год…»
Подражая кому-то из взрослых, я говорю:
— Подумать только, уже тридцать восьмой год!
На нашем девятиэтажном доме по полукруглому фасаду укрепили огромного Ворошилова на коричневой лошади; комендант руководил развешиванием красных флагов. Утром Первого мая нас, ребятишек, собрали в клубе домоуправления. Зина в новеньком пестром платье и я в зеленом френчике уселись на первом ряду. Военный политработник рассказывал, как плохо живется детям в странах капитала:
— Для них кусочек сахара — огромная радость…
— Кусочек сахара! — удивляюсь я и толкаю Зину.
Я даже слегка не верю этому политработнику, так как сахара у нас — колотого, пиленого, песку — никто не считает. Я не могу помнить голодные годы, когда ввели карточки, а теперь я так избалован, что и конфеты для меня не подарок, не говоря уже об одежде. Подарками, по моему понятию, могут быть только игрушки: тяжелый заводной танк, около сотни солдатиков, каска и сабля, педальный автомобиль…
Затем мы смотрим фильм о девочке, голодной и несчастной, которая случайно перешла нашу западную границу, была обогрета, накормлена и обласкана, а потом возвращена на ту, капиталистическую, сторону. Девочку мне жалко до слез.
Из темноты кинозала мы возвращаемся в майский день. И свежий ветерок с солнцем, праздничная радиомузыка, движение, смех, шутки взрослых живо поднимают мое настроение. В каменном колодце двора еще прохладно, сыро, а на Тишинской площади — теплынь, тротуар и стены нагрелись, сверкают оконные стекла. Наши отцы — оба высокие, ладные, с двумя шпалами на малиновых петлицах — шествуют впереди, беседуя о своем. Мы с Зиной отданы на попечение мамам и, пока идем бывшей Живодеркой, ныне улицей Красина, вертимся, все норовим вырваться, убежать, а у Садового кольца затихаем. Там море голов, лес транспарантов и портретов Сталина, там ровный и мощный гул гасит медь оркестров и пение.