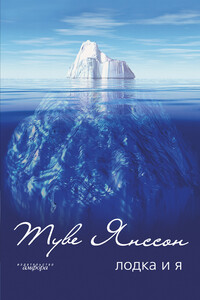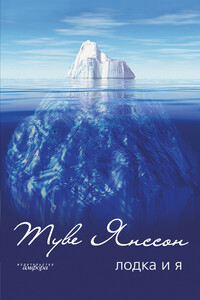Одна из… Одна в комнате. И отражение лишь подтверждает единственность.
Второе воспоминание детства — она и другие.
Смутная стайка девочек обитает во дворе. Слышно, как они выкликают друг друга по именам. К ним не пристать. Еще неясно — почему.
А ей сегодня куплены мелки. Они — цветные, хрупкие, целые. А асфальт вокруг недавно выстроенной пятиэтажки совсем новый, черный.
Девочка рисует, выводит цветами и линиями робость свою, нежность — невообразимой красы принцессу в бальном платье, перчатках, короне. Принцесса хороша — и девочке хочется подарить ее кому-нибудь, и недавно прирученными печатными буквами девочка выводит: «ЛЕНА». Там, в этой стайке, есть некая Лена — пусть ей будет приятно. Построила мостик, уходящий одним концом в пустоту. Послала рисунок-шифр.
Назавтра девочки зовут ее гулять. Возбужденно хихикают, перешептываются, дружным племенем влекут ее туда, где вчера асфальт впитал первый рисунок.
…Принцесса втерта в асфальт белесым прахом, меловой призрак ее взывает от земли, а поверх нарисован громадный квадратноголовый некто, и кишки в его животе лабиринтом, воронкой, ужасом. Жуткий монстр, под ним — имя. Ее имя. Горе, стыд и недоумение — до глухоты…
Девочки были возбуждены каким-то первобытным драйвом. Свидетели чужой инициации… Ритуальная радость: ты — один, а мы посмотрим на тебя, и пока мы смотрим на тебя все вместе — мы есть…
Таким было ее первое унижение.
Ни за что, просто по дворовому детскому вердикту. Просто «не ведают, что творят». Просто месть за ее равенство самой себе.
И совсем не помнились родители в ее детской пьесе абсурда.
Без них было изжито это первое удушающее горе.
Меж ней и сверстниками пролегла пустота. Стали они для нее чудными зверями заповедного леса, заколдованными уродцами заклятой страны…
Сидела в покойном кресле, улыбалась вослед пережитому.
Кофе бы сейчас. Кофейный запах, никогда не совпадавший с кофейным вкусом, выводил свои ноты в ее воображении.
Грея воду, насыпая тонко помолотый, темно-коричневый кофе в белую чашку, думала, как любит она это сочетание белого и коричневого. Оно обозначало ее пределы обитания, это был ее флаг и ее ergo sum.
Нет, ее мир не был черно-белым, но в этом пристрастии к бело-коричневому просматривалась легкая, но неотменимая маргинальность. Она обитала на верхнем и нижнем пределах границ. Ее положение в любом обществе было допустимо невозможное.
А в отрочестве? Подростком — ничего про себя не знала. Даже не очень-то была уверена в своем существовании. Оттого, вероятно и влюблялась часто, тщась этим обрести подтверждение собственного существования.
Но как это обычно бывает с такими девочками, влюбленности высмеивались, бытие не подтверждалось, зависала в невесомости…
Помнится, однажды, лет в тринадцать, озадачилась: хорошая она или плохая?
Спросила у подружки.
Подружка была умна и вполне принадлежала к племени людей, занимала там достойное место и дружбой своей дарила неброско, мимоходом.
Ей вопрос не показался странным.
«Это вопрос на всю жизнь», — сказала она.
Правду сказала, откуда только знала…
Ах, тот, кто генерировал вопросы, там, наверху, сам ждал на них ответов.
Ее жизнь и стала чередой таких ответов: правильных и неправильных, скорых и заторможенных, остроумных и выстраданных, грубых и отчаянных.
Порой — это были отгадки. Порой — просто отмазки.
А иногда — было лучше промолчать в ответ.
Лет с четырнадцати, кажется, ей стали попадаться книги о себе подобных.
Это были кодовые послания — каких-нибудь десять строк шифра для посвященных, рассеянных на сто страниц текста.
От них шел слабый ток, учащалось дыхание и плавились слезами глаза.
Начинала понимать что-то про себя.
Ходила, осененная этим понятым, заглядывала в лица, искала «своих».
Вот эта искательность ее взгляда и отпугивала всех без исключения.
Наверное, это там, наверху, охраняли ее ревностно, стерегли чистоту породы маргиналов, не позволяя ее сильно разбавлять дружбой и схожестью.
Тогда-то она и приняла свою несхожесть.
Приняла ее как некую ущербность, сейчас бы сказала — «генетический сбой».
Исчезла искательность, но осталась виноватость. Снедало чувство собственной нечистоты.