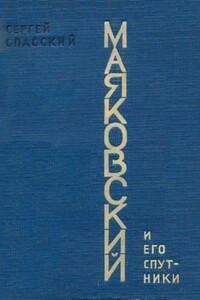Юрий замолчал, вспоминая случившееся и заново переживая трагедию.
— Роковой возраст, — этим замечанием я попытался вывести Юрия из задумчивости. Но он все еще оставался там, в том времени, в тех обстоятельствах, ставших причиной кончины великого клоуна Енгибарова.
— …Плюс еще нервы, плюс житейская неустроенность. Даже умер он не в своей квартире: у артиста с такой популярностью не было квартиры! Он жил в одной комнате с матерью. Было жутко тесно и неудобно. Теперь Леонида почему-то считают очень советским — но это отдельный разговор. Он всегда мне говорил: напиши обо мне книгу! Но как-то не сложилось… Я о нем помню всегда.
А еще были Геннадий Маковский и Генрих Ротман. Знаменитая пара, которых я тоже «делал» с Борей Бреевым… Был Анатолий Марчевский, его я недавно видел в Москве. Прекрасно работает! Перед встречей я очень нервничал: ведь прошло 20 лет. Он выступает с тем же репертуаром, что мы когда-то готовили вместе много лет назад. Были другие клоуны, с которыми я работал, — менее известные, но не менее талантливые. Может быть, менее удачливые… Так что жизнь проходила интересно.
Последним моим местом работы там стал Московский государственный мюзик-холл, в котором я был художественным руководителем. Наверное, закрытие этого мюзик-холла и стало последним доводом в пользу моего отъезда из СССР. Я воевал с самой партией, потому что вопрос закрытия рассматривался на уровне ЦК. Вот там я и заявил, что уеду.
И оказалось, не один я: несколько человек откликнулись, в том числе Савва Крамаров, Эрик Зорин, Соня Мельникова и еще три человека. Мне говорили: ты сумасшедший, лучше не надо! А мы начали это дело. Я до сих пор не знаю, почему мюзик-холл закрыли.
По-моему, это была какая-то внутренняя интрига, доведенная до уровня государственной проблемы. А ведь там сложился очень милый коллектив, очень работоспособный. Я его только-только взял в руки после смерти Л. Енгибарова. Мы начали работать, писали новые сценарии. И вдруг совершенно неожиданно вышел приказ о нашем закрытии. Я не успел ничего сделать, лишь поддерживал тот спектакль, который уже шел. Но это был хороший для меня толчок. И я решил ехать. Трудно было на это решиться. К тому же в паспорте я — русский. Родственников в Израиле у меня не было.
Когда я начал процесс отъезда, шел 1978-й год. И два следующих года я сидел в отказе. Встретился с еврейскими активистами, они мне помогли: нашли одну женщину, которую я знал, — врача, уехавшую в Израиль в первом потоке. Тут же она прислала вызов моей маме. А в результате нам было сказано: мама может ехать, но вы нет. Вы, мол, так сказать, не родственник — вы русский человек.
Вот так я попал в группу диссидентов — неожиданно для себя. Что делать? Мне советуют придумать что-нибудь такое, необычное. Если выставишь на балконе лозунг — тебя, скорее всего, арестуют. А ты придумай что-нибудь, чего до тебя не было. КГБ — организация бюрократическая, и пока инструкция не вышла, они ничего не сделают. Глядишь, успеешь проскочить. И тогда мне пришла идея домашнего театра.
Было много людей в этот момент в Москве в таком же, как я, положении. Я им позвонил — прежде всего профессиональным актерам, художникам. Но это отдельная история. Потом появилась статья в газете «Балтимор-сан». Спасибо Светлане Дарсалия — это она завела к нам корреспондентов. Статья была переведена на русский и передана по «Голосу Америки». После чего товарищи из КГБ явились к нам лично и предложили перестать играть. Я собрал актеров, и, как ни странно, через неделю или две после этого все, кто был занят в нашем спектакле, получили звонки из ОВИРа: наши дела пересмотрены — мы должны покинуть страну. Вот такая история…
Савва же еще какое-то время продолжал работать в театре, его с нами не выпустили — но и ему, в конечном счете, театр помог. Выехал он позже, уже следом за нами.
Мы потом долго думали, почему они нас выпустили? И пришли к выводу: это сделано для того, чтобы использовать нас в качестве пропаганды. Мол, всё здесь люди имели — и деньги, и положение, а теперь вот моют посуду в ресторанах. Но никто из нас посуды не мыл. Хотя я, честно говоря, не ожидал, что, приехав в Америку, буду работать по специальности. Никаких особых амбиций у меня не было: я знал, что меня здесь никто не видел, никто обо мне не слышал. Поскольку я был сам главным режиссером, то понимал, что если бы ко мне в Москве пришел человек и сказал: я вот в Турции, скажем, ставил спектакли, возьмите меня работать, — мой ответ был бы для него малоприятным.